 НОВАЯ
ПАРАДИГМА В РАСОЛОГИИ
НОВАЯ
ПАРАДИГМА В РАСОЛОГИИВладимир Авдеев. Журнал "Наследие предков" №7 1999 г.
В.Авдеев, А.Савельев: "РАСА И РУССКАЯ ИДЕЯ" (предисловие)
В.Авдеев: "НОВАЯ ПАРАДИГМА В РАСОЛОГИИ". Журнал "Наследие предков" №7 1999 г.
В.Авдеев: "РАССУЖДЕНИЕ О РАСОВЫХ ПРЕДРАССУДКАХ"
В.Авдеев: НОВАЯ ТРАДИЦИЯ и общий кризис традиционализма
В.Авдеев: "БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА НОРДИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ"
РУССКАЯ РАСОВАЯ ТЕОРИЯ ДО 1917 ГОДА
В.Авдеев: КОМПАРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ
В.Авдеев, А.Савельев «РАСА
И РУССКАЯ ИДЕЯ»
(предисловие)
В научной и политической среде споры вокруг термина “РАСА” разгораются уже не первую сотню лет, однако в XX веке накал страстей достиг своего предела. И если в первой его половине это слово стало модным, и его применяли все кому ни лень - от социал-демократов до правых радикалов, то после известных событий Второй мировой войны его с аналогичным усердием попытались изгнать из научного и повседневного лексикона. Те, кто хотел использовать этот термин в своих целях, придали негативную окраску самому слову “РАСА”. Одни желали видеть в нем лишь базовую биологическую категорию, другие, напротив старательно насыщали его политическими смыслами, которых в нем до этого не было.
В целях научной беспристрастности попытаемся восстановить первоначальное значение термина.
Слово “RASA” пришло из санскрита - древнейшего языка индоариев времен начала формирования этой общности, когда еще не было народов в их современном социальном понимании и когда еще не было множества национальных языков, ныне эту общность представляющих. Именно биологическое единство крови и ареала обитания являлось тогда связующей основой между людьми. Социальные, политические, культурные, религиозные различия возникли много позже и нарушили эту общность.
Таким образом возникновение слова “RASA” относится к эпохе протоистории.
В наиболее авторитетном на сегодняшний день оксфордском словаре под редакцией сэра Моньера-Вильямса слово RASA трактуется как “лучшая часть чего-либо, эссенция, сок из фруктов, сироп, микстура, эликсир” - словом, концентрированное вкусовое выражение. От корневой основы образуется еще несколько десятков производных слов, несущих в себе тот же главный принципиальный смысл: RASA - это основополагающая оценочная категория причем не только в материальной сфере, но также и в области трансцендентальных идей и понятий. RASA - это атом, неизменная единица вкусового и, шире, оценочного мировосприятия вообще. Образно говоря, RASA - это эталон, соизмеряющий бытие во всем множестве его проявлений: от цвета, запаха, вкуса и прикосновения вплоть до тончайших флюидов чувственного религиозного состояния и свободного от эмоций чистого разума.
RASA - универсальный критерий, на основе которого затем складываются более сложные и конкретные оценочные категории. Таким образом, термин RASA обозначает одно из основополагающих понятий древнейшего на земле языка, ибо восходит к самым началам формирования языка как такового. Когда древнейший индоевропеец принялся сравнивать различные вещи, ему понадобилась некая изначальная оценочная категория, желаемый эталон совершенства. По-видимому, так в глубинах архетипа и запечатлелось слово “RАSА”.
Совершенно очевидно, что, рассуждая о качестве окружающего мира, человек начал применять это слово в первую очередь к своим собственным собратьям, оценивая с его помощью людей из соседних и дальних племен. Именно так этот термин и наполнился антропологическим, а затем и социальным смыслом.
В Европу санскритское слово RАSА первыми привезли португальцы после открытия Индии, но в обиход оно вошло лишь в 1672 году с подачи известного французского путешественника Франсуа Бернье. Французское LA RАСЕ имело вначале сугубо этнографический смысл. В англосаксонской литературе, впрочем, предпочитают не упоминать имени француза, закрепляя первенство за собой и датируя появление слова RАСЕ концом XVII века. Как бы там ни было, но весьма симптоматично, что и французы, и англичане обладают вкусом, а потому не случайно первыми воспользовались этим древнейшим критериям оценки в соответствии с его глубинным смыслом. XVII век в этих странах был веком формирования буржуазных отношений, веком создания наций и современного социального мышления. В Англии уже произошла буржуазная революция, а во Франции она еще только назревала, но при этом обе страны были великими морскими державами и испытали на себе в полной мере общение с людьми разных национальностей. XVII век - это также начало развития современной медицины. Естественные науки делают первые робкие шаги и в XVIII все эти процессы усиленно развиваются.
В самом начале XIX века с ростом этнического самосознания у континентальных народов Европы усилиями Иоганна Готфрида Гердера термин “RАSSЕ” появляется и в немецком языке. Наконец, уже в середине XIX века, объединенными усилиями археологии, лингвистики, антропологии и сравнительного религиоведения образуется научная картина возникновения человечества, а ветхозаветный миф о творении мира отходит в область преданий. Учение Дарвина, а затем Моргана-Вейсмана на фоне бурного развития общественных институтов власти и социально-экономических потрясений рубежа веков окончательно придали термину РАСА его современное значение, включающее в себя антропологический, социологический и политический аспекты.
Однако весьма важно отметить, что в целом расовая теория в Европе также возникла как этическая система ценностей, как квинтэссенция метафизической философии. Иоганн Готлиб Фихте писал: “Я только инструмент, только орудие нравственного закона, но не цель”. Иммануил Кант отмечал: “Личность не может быть конечной целью этики”. И лишь Артуром Шопенгауэром центр тяжести новой философской системы обозначается со всей ясностью: “Глубочайшей сутью каждого животного, а также человека является вид, к которому он принадлежит. Именно в нем, а не в индивидуальности коренится столь могучая воля к жизни”. Феликс Дан говорил: “Главное богатство человека - его народ”. Основоположник расовой гигиены Альфред Плетц уже совершенно точно сформулировал и выделил приоритеты: “Всюду, где этик ищет расположенную вне личности, не трансцендентную опорную точку человеческих действий, где политик берется за основные жизненные интересы, конечным объектом, сознательно или бессознательно, всегда является органическое целое жизни, представленное расой”.
Один из ведущих расовых философов XX века - Фриц Ленц в своей программной работе “Раса как ценностный принцип”, продолжая магистральную линию немецкой метафизики, определял главную идею данной философии так: “Раса - носитель всего, и личности, и государства, и народа, из нее исходит все существенное, и она сама -суть. Она не организация, а организм... Вне нашей воли к ценностям понятие ценности теряет свое значение. Звезды нашей судьбы - внутри нас. Обоснования нашего высшего идеала - в нашей собственной сущности... Как для счастья отдельных людей, так и для всеобщего счастья постоянной основой служит здоровье расы. Выродившийся народ неизбежно несчастен, даже обладая всеми сокровищами мира. Не раса нужна нам ради счастья, а счастье ради расы”.
Таким образом, РАСА - это понятие которое имея глубинное архетипическое происхождение, приобретает политическую окраску. Именно в силу своей внеисторичности, оно при этом обречено на вечную молодость. Зародившись до исторического процесса как такового, оно не подвержено тлену времени.
В начале XX века целая плеяда европейских ученых стала разрабатывать расовую теорию. Немецкий психолог Эрих Рудольф Енш так определял основное ядро новой философии: “Кровь и раса определяют чистоту идей. Раса и кровь - это лежит в основе всего. От строения капиллярной сети и до мировоззрения протягивается единая прямолинейная нить”. Аналогично мыслил Эрнст Крик: “Не индивид вырабатывает мировоззрение, самостоятельно и произвольно отбирая и обрабатывая факты, а наоборот, в нем заложены силы, вырабатывающие мировоззрение. Эти силы - естественные задатки в крови и земле, господствующие над индивидом в лице “народа” и “целого””. Фридрих Штиве также отмечал: “Два элемента определяют судьбу любого народа: “его характер”, то есть раса и “пространство”. Адольф Пфаллер говорил еще короче и образнее: “Наследственность - это судьба”.
Большевистская революция с ее проповедью коммунистического интернационализма смогла победить только в расово-инфантильной среде. Этнический и, естественно, психосоматический компонент первого советского правительства - наглядное тому доказательство. Такое правительство могло возникнуть только у народа, который не способен квалифицировать что перед ним находится, ибо главный критерий оценки под названием “РАСА” у большинства русских был атрофирован. Лишь малая часть российского общества ответила на революцию вырожденцев гражданской войной, “белым” движением и заплатила за свою непокорность сотнями тысяч жизней.
Этнографическая вакханалия советского братания с кем ни попадя из нулевой величины расового мышления создала просто отрицательную величину. “Кто был ничем, тот станет всем”, - это уже лозунг открытой контрселекции, под маской прогрессивного строителя коммунизма прячущий дегенерата, перечеркнувшего всю историю культурного человечества. Закрепление результатов контрселекции в доктрине “дружбы народов” было предназначено, чтобы окончательно добить русскую природу и подменить ее советской контрприродой.
Русский архетип, позволивший антигуманным экспериментаторам сжать до предела пружину природного сопротивления, сегодня начал постепенно оказывать противодействие давлению. Но отсутствие расовой элиты, отсутствие ясного расового мышления сделали свое дело – на смену одним вырожденцам пришли другие. Родственная большевистской “демократическая революция” 1991 года поставила у власти все тот же вырожденческий тип – продукт кровосмесительных экспериментов. Но на этот раз русские, оживающие от векового сна, не приняли издевательств над собственной природой. Наше сопротивление становится все жестче и непримиримей. Русские еще не в силах сбросить со своей шеи “князей мира сего”, но уже готовы к сопротивлению и пробуждению расового сознания.
Для создания расовой теории необходимо, чтобы идея крови переросла идею почвы, и при необъятных размерах России это, естественно, было невозможно. Расовый инфантилизм тормозил формирование мифа крови и на огромных пространствах этот процесс затянулся до наших дней. Англия и Франция создали свой миф крови на рубеже XVIII и XIX веков, Германия - на рубеже XIX и XX, Россия же еще только готовится создать собственную уникальную расовую теорию на пороге третьего тысячелетия.
Расовая теория родилась на основе синтеза естественных и гуманитарных наук, именно на стыке биологического и социального мышления и расцвела расовая философия во всем своем многообразии. Ведущие европейские индустриальные державы, вступив в пору формирования наций, создали свои расовые концепции, свои “мифы крови”. Россия в силу географической уникальности, на наш взгляд, только вступает в пору формирования нации. Русским еще предстоит пережить эту социобиологическую мутацию сознания. Основания для уверенности в том, что соответствующее изменение мировоззрения будет успешным имеются как в истории русского народа, так и в русском философском наследии.
Вся история России есть история размежевания с другими народами – в особенности с народами инорасовыми. Вопреки распространенному убеждению, русские колонисты на просторах Сибири, Средней Азии и Дальнего Востока вовсе не растворялись в массах аборигенов, не калечили свой род метисацией. Наоборот, в инородческом окружении русские, подчас более жестко следовали инстинкту расовой гигиены, чем в своих священных родовых землях.
Русские геополитические победы были возможны только потому, что русские колонисты были сильнее, трудолюбивее, умнее, сплоченнее, чем туземцы. Их жизнеродная сила и производительность труда были выше, чем преимущественно и объясняется беспрерывное раздвижение границ Российской Империи вплоть до соприкосновения с великими цивилизациями.
Иноземцы-завоеватели никогда не получали среди русских верноподданного населения, готового на ассимиляцию. Даже татаро-монгольское иго, которым нам тычут в лицо нечистоплотные историки, ничуть не сказалось на русской этнической обособленности. С врагом если и роднились, то только вынужденно и только в княжеских верхах. Россия могла склонить голову перед силой, но русские никогда не делали свой дом проходным двором, в котором смешиваются разноликие племена. В этом смысле Россия выгодно отличается от Европы, не говоря уже об Америке.
Русская мудрость, русская идея в самой своей сердцевине всегда были обоснованием сохранения расовой чистоты. Войны с туретчиной, татарщиной и латинством – главное тому свидетельство. Русские религиозные и светские доктрины всегда определяли за русскими особую миссию, которая играла просветляющую и цивилизующую роль в отношении других племен. Ощущение избранности всегда присутствовало в русских, когда они имели дело с другими народами, что хранило их от массовых помесей с басурманами и латинянами.
Русская социальная философия и критическая публицистика многое сделали для осознания пути России в прошлом, для разоблачения уродств социалистической и либеральной мысли. Но беда и вина русской философии в том, что она пренебрегала материально-биологическими условиями жизни народа, собственным народом как таковым – его телесной сущностью, измерениями его характера, порожденными природными факторами и самой историей. Этика русской идеи во многом лежала за пределами самого русского народа как органического целого. В этом смысле русская философия, говоря о всечеловечности, все время пренебрегала необходимостью зафиксировать природное (а не только духовное) отличие русских от прочих народов. Федор Михайлович Достоевский, к примеру, только в записках помянул, что “всечеловечность” для него – это власть русских.
Русская философия со всех сторон анализировала истоки и смысл российской государственности. Она вплотную походила к осознанию роли русского народа в государственном строительстве и постановке задачи выделения русского национального ядра как государствообразующего. Николай Александрович Бердяев писал: “Всякая империя, исторически жизнепригодная, должна иметь пребывающее национальное ядро, из которого и вокруг которого совершается ее всемирно-историческая работа”.
Но даже подходя к этой меже, отделяющей абстрактную философию от национальной, русские философы продолжали говорить о вселенском характере русской исторической миссии. Тот же Бердяев писал, что наш “национализм должен выражать русский всечеловеческий народный характер”. Современные задачи выживания русских требуют иной ориентации – ориентации не на общемировые задачи, а на национальный эгоизм, цивилизованный расовой идеей и теорией социальной корпоративности.
Диалектика национальной души и национального тела оказались для русской философии камнем преткновения. Лишь немногие выдающиеся мыслители преодолевали внутренний конфликт, отказывались от той самой болезни, в которой они сами изобличали русскую интеллигенцию – от беспочвенности.
Одним из таких философов был Сергей Николаевич Булгаков, который нашел в себе силы заявить: “Родовое начало, психея есть для человека непреложный факт его собственной природы, от которого он онтологически не может, а аксиологически не должен освободиться, ибо это означало бы развоплотиться, перестать быть в своем собственном человеческом чине. Это люциферическое восстание против Творца”. Он признал, что здравому национальному самосознанию должно понимать, что “национальность есть для нас и страсть, и бремя, и судьба, и долг, и дар, и призвание, и жизнь. Ей должна быть являема верность, к ней должна быть хранима любовь, но она нуждается в воспитании, просветлении, преображении. Космополитический гомункул вольтеровского и коммунистического образца в жизни не существует... Только национальное есть и вселенское, и только во вселенском существует национальное”. Нация, как ее понял Булгаков, опирается на инстинкт, переживаемый как чувство национальной идентичности. Лишь затем “инстинкт переходит в сознание, а сознание становится самопознанием. А отсюда может родиться и новое национальное творчество. ...национальное сознание и чувство могут известным образом (несмотря на подсознательный характер национальности) воспитываться, и, конечно, также и извращаться”.
Извращения начинаются с безразличия к национальному, с мифологии “многонациональности”, а кончаются открытой злобной русофобией. За бессчетными повторениями нелепиц о “многонациональности” России и правах “национальностей” на племенной сепаратизм, требующий все больших и больших прав и свобод, стоит “союз интеллигентщины с татарщиной” против русского народа.
В противовес этому союзу Булгаков ясно и недвусмысленно заявлял: “Даже те государства, которые в своем окончательном виде состоят из многих племен и народностей, возникли в результате государственной деятельности одного народа, который являлся в этом смысле “господствующим”, или державным. Можно идти как угодно далеко в признании политического равенства разных наций, - их исторической равноценности в государстве это все равно не установит. В этом смысле Россия, конечно, остается и останется русским государством”.
Прерванный большевистским переворотом полет русской мысли мог и должен был прийти к расовым идеям. Неслучайно в советское время (20-е годы) возникло понимание необходимости евгенических законов, а изучение антропологических различий между народностями страны велось на самом высоком уровне. О многом говорит и метод элитного отбора, отсекающий от власти дегенератов и выродков (см. приложение к настоящему сборнику).
Вторая мировая война и последующая волна “денацификации” отложили неизбежное возвращение к идеям качественного улучшения человеческой природы и сохранения генетического здоровья русского народа. Мы возвращаемся к русской идее и возвращаем ей природно-телесную составляющую, которой ей так не хватало в прошлом. Мы избавляем русскую философию от безродности, понимая, что “самым безобразным детищем того, что называется современной культурой, является именно ее плоскостность, ее отрицание времени, рода и племени. Безродность, как осуществляемое начало, есть начало неосуществимое, и в этом заключается осуждение всех окрашенных им течений мысли”.
Мы намереваемся осуществить будущую Россию, обеспечить в ней будущее русского народа, а потому отказываемся от безродности. Мы – русские, русская идея – апология нашего прошлого и обоснование нашего будущего. Мы ее никому не навязываем и отдавать не собираемся. Но все, что пытаются выдать за русскую идею, подмешивая в нее интернационализм и “общечеловеческие ценности” мы отвергаем как пошлое извращение. Наша идея чиста, как чиста должна быть кровь нации.
Мы не можем принять космополитизма в православии. “Денацификация” православия есть гнусная клевета на Русскую Церковь, подмена ее традиционных основ либеральными выдумками последних лет. Вопреки глупым попыткам “вычистить” нацию из православия, мы говорим: “нация в православии есть, и она богоугодна”. Нация, как писал Георгий Петрович Федотов, в христианстве оправдана, как оправдана и человеческая телесность. Утверждать иное – значит соучаствовать в сатанинском восстании против Создателя.
Замечательный русский философ Алексей Федорович Лосев отмечал, что “тело – не просто выдумка, не случайное явление, не иллюзия только, не пустяки. Оно всегда проявление души, ее след. В каком-то смысле сама душа”. Именно поэтому национальное тело неотделимо от национальной души. Последняя превращается в отвлеченную выдумку, когда толкуют о праведности, произнося вне контекста и понимания “нет ни эллина, ни иудея”. Национальная, расовая предопределенность бытия человека в прошлом и будущем обоснована в православии, как ни хотелось бы кому-то выдать каждую мировую религию за религию всесмешения и повесить на православие этот содомский грех.
Мы должны сослаться на глубоко религиозную идею Николая Федоровича Федорова, изложенную в его “Философии общего дела” - на идею воскрешения отцов во плоти и крови, соответствующую христианской эсхатологии и ищущую пути соработничества Богу в деле победы человеческой телесности над смертью. Причем речь идет не о выведении “общечеловека”, а о воссоздании ушедших поколений во всей их национальной, расовой, культурной конкретности.
Вслед за Константином Николаевичем Леонтьевым мы осознаем, что “идея всечеловеческого блага, религия всеобщей пользы, - самая холодная, прозаическая и вдобавок самая невероятная, неосновательная из всех религий”. Наша религия и наша философия – это религия и философия блага русского народа.
Вместе с тем, современная русская идея не может замыкаться в исключительно почвеннических интеллектуальных изысканиях. Русская национальная идея может быть основана только на самом современном знании.
Основоположник русского национализма, Иван Александрович Ильин писал: “Самобытность русского народа вовсе не в том, чтобы пребывать в безволии, наслаждаться бесформенностью и прозябать в хаосе; но в том, чтобы выращивать вторичные силы русской культуры (волю, мысль, форму и организацию) из ее первичных сил (из сердца, из созерцания, из свободы и совести)”.
Философы русского зарубежья точнее всех предсказали главные болезни России, которые выступят на поверхность с крахом коммунистического режима. Об этом писал и Иван Ильин, и Георгий Федотов. Они предупреждали, что счет за коммунизм будет предъявлен сепаратистами всех племенных мастей русской народу. Мы видим, что этот прогноз оправдался в полной мере и принес самые ужасные последствия для страны. Если предъявленный нам счет не будет опротестован, если мы не ответим предъявлением своего счета латышским стрелкам, еврейской нигилистической интеллигенции, чеченским бандитам и прочей тьме тьмущей русофобов, старающихся переложить на нас свою вину, русские исчезнут с лица земли.
Георгий Федотов говорил, что спасение России состоит в преодолении центробежных сил, которое только и возможно в опоре на “живой, мощный, культурно царствующий центр - великорусское сердце своею тела”. Восстановления “царствующего центра” не только в культуре, но и в политике и экономике, составляет будущее для русского народа, да и для всех народов, живущих рядом с нами.
Раса - величина неизменная и генетически обусловленная, поэтому ни какофония социальных потрясений, ни чехарда политических извращений, ни оскорбления национального духа не способны заглушить голос вскипающей крови. Поэтому русская расовая теория возникнет с неизбежностью закономерной биологической реакции организма на инфекцию.
Санскритологи всего мира сходятся во мнении, что санскрит появился на территории современной России. Из современных живых языков именно русский ближе всего к санскриту, и это также неоспоримый факт. Поэтому чередование гласных букв в корнях РУС-РОС-РАС говорит само за себя. Немецкий расовый теоретик и этнограф Отто Рехе справедливо писал по поводу исторического соотношения расы и языка: “Некогда расы и язык покрывали друг друга. Язык был одним из духовных свойств расы... И если в позднейшие времена расселение и смешение рас стерло эту первоначальную ясную картину, то основной вывод о духовных взаимоотношениях между расой и языком от этого не изменился: язык представляет часть расового духа”.
Самой логикой русского языка, этимологией самоназвания мы, русские, имеем полное моральное право на создание собственной расовой теории в первоначальном, чистом, незамутненном смысле этого древнего архетипического понятия времен создания индоевропейской общности. Совершенно очевидно также, что наше русское написание слова “РАСА” точно воспроизводит санскритский термин “RASA”, в то время как английский, французский и немецкий варианты отступают от санскритского канона, отдаляясь тем самым и от первоначального индоевропейского смысла. “Раса” - это глубоко русское по смыслу и по звучанию слово, и не нужно быть филологом, чтобы это понять. Слово “РАСА” полностью соответствует нашему архетипу, и нам совершенно ничего не нужно выдумывать, чтобы оправдать логику самоназвания РУССКОЙ РАСОВОЙ ТЕОРИИ, ведь наш язык говорит само за себя:
РУС-РОС-РАС - это изначальная смысло-звуковая матрица древнейшего языка индоариев. Имя Бога солнца Pa - также означает сопричастность к этой архетипической матрице нашего сознания. “РАСА” как оценочная категория происходит от имени солнечного Бога Ра. Оценивать свой род и всех других людей на основе солнечной квинтэссенции, эликсира жизни, сока фруктов, произрастающих под живительными лучами солнца, то есть на основе расы - что может быть естественнее и проще?! Именно поэтому солярные символы являются непременными составляющими арийских религий и поныне. Язык в данном случае красноречив, ибо быть точным и отражать суть вещей - его главная задача. Он бережно передает нам смыслы, которые впитал в себя тысячи лет назад.
Отто Рехе, суммируя естественнонаучные и гуманитарные знания дал такое определение этого термина, которое и поныне остается наиболее точным: “Раса - является понятием естественнонаучной систематики. Раса - это группа живых существ, которая развилась в изоляции и благодаря естественному отбору из одного корня и без примеси чужеродных элементов, эта группа благодаря большинству физических и духовных наследственных признаков, образующих в своем соединении некоторое единство, а также благодаря форме своего проявления вовне существенно отличается от других групп этого рода и всегда воспроизводит лишь себе подобных. Раса тем самым обозначает “гармонию”, “жизненный стиль” и “характер”. Раса - это подгруппа вида”.
Данный коллективный сборник является первым концептуальным изложением русской расовой теории. Впервые русская идея спускается с заоблачных высей богословской и атеистической схоластики, обретая плоть и кровь, получая расовое измерение. Поэтому наша методология не имеет ничего общего с советским историзмом, преподававшимся у на протяжении всей коммунистической эпохи и заводившем научную мысль в тупик.
Один из корифеев советской антропологии Аркадий Исаакович Ярхо в своей работе “Очередные задачи советского расоведения” в 1934 году предельно ясно обозначил: “Борьба с расовыми теориями предполагает наличие совершенно определенной тактики и стратегии. Только при условии, если в противовес тезисам расовых теорий нами будет выставляться концепция исторического материализма, если мы перенесем центр тяжести критики из плоскости биологии в плоскость социологии, наша критика будет действенна. Поэтому первое и основное - это систематическое разоблачение роли расового фактора в историческом процессе”.
Другой мэтр советской антропологии Виктор Валерианович Бунак в своей программной статье “Раса, как историческое понятие” вообще договорился до того, что “раса - абстрактное понятие” и что “расы возникают в результате мутаций”. Мало того, “раса не абсолютная категория, а историческая, некоторый этап формообразования. Каждая эпоха имеет свои расы в их конкретном проявлении”.
Получается, что различия между белыми и черными людьми абстрактны, временны, и что изначально чистых белых и черных не бывает. А крещение Руси, петровские реформы, а также большевистская революция изменили в одночасье расовый состав и даже расовые признаки нашего народа. В результате “демократических реформ” последнего времени нас, очевидно, также ожидают многочисленные “мутации”.
При такой логике мышления, всем, кто стремится запретить свободное обсуждение расовой проблемы, мы предложили бы для начала запретить цвета радуги.
Ни редколлегия, ни авторы статей сборника не могут придерживаться взглядов “объективной советской науки”. Преодолеть тяжелые последствия марксистско-ленинского влияния на антропологию - вот наша цель. Время советской классовой антропологии окончилось, так же, как окончилось время советской историософии.
Придворный коммунистический историк Валентин Фердинандович Асмус уже во введении к своей книге “Маркс и буржуазный историзм” в 1933 году писал, что “биологизм и историзм несовместимы”. Что ж, перефразируя известную цитату Гегеля скажем, что, если биологизм и историзм несовместимы, то тем хуже для историзма. Наша историософия - это расовая историософия. Если бы расы были абстрактны или неустойчивы, то и данный сборник не имел бы смысла.
Что же касается разговоров о пресловутом расовом смешении, то мы не стали бы в названии использовать древнейший арийский термин если бы расовое смешение было бы неизбежным или уже состоялось. Мы знаем, вопреки домыслам либеральных теоретиков, в природе действует один из важнейших биологических законов - закон автоматического очищения вида.
Задача составителей предлагаемого сборника и состояла, таким образом, в восстановлении естественнонаучного баланса при рассмотрении самой русской идеи и в возвращении ее смыслового акцента с абстрактно-социальных факторов на биологические. Никогда еще в отечественной философии и критической литературе проблема не ставилась под таким углом зрения. В советский период неизменно превалировали социальный и исторический аспекты, а в дореволюционной России упор делался на сверхисторические и провиденциальные факторы. И тут и там отсутствовала всякая органическая, то есть подлинно расовая основа исторического процесса, формирующего уникальное древо русской философии.
Один из пионеров расового осмысления истории - польский ученый Людвик Крживицкий давал такое обоснование данного метода: “Расовая историософия доискивается причинной связи между расой, с одной, и проявлениями общественной жизни, с другой стороны, по мнению расовой историософии, если бы не было данной расы, то не существовало бы соответственных цивилизаций. Раса в этом случае является не только покровительницей общественных процессов, но их источником, силой, созидающей учреждения. В то время как обыкновенная история описывает лишь то, что совершила данная раса, не разбирая причинной зависимости”.
Основоположник политической антропологии немецкий философ Людвиг Вольтман также подчеркивал: “Ход исследования должен таким образом выполнить одинаково два научных требования: с одной стороны - представить как биолого-антропологические, так и историко-политические факты, а с другой - раскрыть внутреннюю причинную связь между обоими рядами фактов, в общей и специальной истории народов и государств”.
Ввиду вышеизложенного в данном сборнике применен принципиально новый для указанной области метод исследования русской идеи. Обычно историками толковались следствия социальных процессов, мы же хотим вскрыть причины, коренящиеся в русских как биологическом виде – расовые корни русской идеи. Как справедливо писал немецкий расовый теоретик Лотар Готлиб Тирала: “В противоположность вульгарному историзму следует показать, что голос крови и расы продолжает действовать вплоть до тончайших извивов мысли и оказывает решающее влияние на направление мышления. Наследственные духовные наклонности являются причиной того, что у народов снова и снова вырабатывается одно и то же мировоззрение”.
Основная сила расовой философии состоит в том, что она моментально выявляет фальшь и расставляет все по местам, внося гармонию и ясность в мировоззрение. Немецкий теоретик Лотар Штенгель фон Рутковски пророчески изрек: “Это слово, которое неумолимо разделяет между собой мировоззрения и одним предрекает конец их эпохи, а другим - непрерывное распространение их жизненно важных, свежих идей, - слово РАСА”.
Народ, нация, этнос - это явления социальной и, следовательно, более поздней истории человечества. Только понятие расы и никакое другое восходит к досоциальной биологической общности человечества и структурирует прочие научные термины в систему. Оно обладает несокрушимой психической силой, ибо, пронзая временную толщу веков организованной социально-политической жизни, оно напрямую активизирует архетип человека - неслабеющий зов его предков.
Не в либеральных откровениях и не в классовой борьбе мы должны искать истоки русской философской самобытности, но напротив, именно на расово-биологической основе следует толковать исторический путь русского народа, его этику и его волю.
“Расовый смысл русской идеи” - это первый сборник статей, наиболее разнообразно излагающий основные проблемы России в ее прошлом, настоящем и будущем с использованием биологических факторов развития общества и индивида.
Мы произносим. каждый день слова “РУССКИЕ”, “РОССИЯ”, но при этом не должны забывать третье важное слово, время которого уже пришло, - “РАСА”.
В.Авдеев
А.Савельев
 НОВАЯ
ПАРАДИГМА В РАСОЛОГИИ
НОВАЯ
ПАРАДИГМА В РАСОЛОГИИ
Владимир Авдеев.
Журнал "Наследие предков" №7 1999 г.
"Расовые различия возникли
еще до того,
как появилось само человечество"
Барон Эгон фон
Эйкштедт
"Никто не может вылезти из своей кожи,
так же как и из своей души".
Фриц Ленц.
Вот уже сто лет, как в представлении читателя всякое упоминание об отпечатках пальцев устойчиво ассоциируется с криминалистикой и судебной медициной. Рядовой потребитель новостей автоматически не поминает при этом, что затейливо вьющиеся по нашим ладоням и ступням линии созданы самой природой и являются идентифицирующими для людей всей планеты, ибо нет в мире и не может быть даже двух человек с одинаковыми дактилоскопическими рисунками. Не отдавая себе отчет мы все являемся владельцами уникальных биологических свидетельств нашего бытия.
И вот уже сто лет читателю почему-то “забывают” сказать, что различия а дактилоскопических рисунках, из-за которых люди никогда не бывают похожи друг на друга, не случайны, а подчинены жесткой логике природы, создавшей разные народы и расы в разных частях земли.
Мы все не просто разные на уровне индивидуальности, но также подчинены жесткой генетической дифференциации в соответствии с рисовой, национальной и региональной принадлежностью. По отпечаткам пальцев любой человек на земле может быть идентифицирован причем с высочайшей степенью точности.
Впервые идея использования отпечатков пальцев для идентификации людей возникла в Китае еще в ХII - ХIII веках и тоща же с успехом была использована в криминалистике. В Европе эту мысль первым высказал Артур Колльман в 1Я83 году, а в 1888 немецкий ветеринар Вильгельм Эбер уже предложил этот метод прусской полиции, но без успеха.
Однако самый конец XIX века, как известно, ознаменовался бурным расцветом естественных наук. таких как антропология, биология, психология, на стыке которых с участием социологии и политологии и возникла расовая теория. Двоюродный брат Чарльза Дарвина. Фрэнсис Гальтон развивал в это время прикладную часть расовом теории - евгенику - науку об улучшении человеческого рода. Вместе с тем будучи талантливым математиком и разглядывая однажды плавно вьющиеся линии дактилоскопических рисунков, он увидел в них графическое изображение математических функций расовых признаков, ибо к тому времени уже был накоплен некоторый фактический материал.
В 1892 году Гальтон впервые сопоставил пальцевые узоры различных расовых и этнических типов. Именно с этого времени развитие дактилоскопии, помимо решения чисто криминалистических задач, начинает развиваться и в русле классической расовой теории. Далее Гаррис Готорн Уайлдер, Гарольд Камминс и Чарльз Мидло вносят большой вклад в развитие новой науки, которая получает название этническая и расовая дерматоглифика.
В России дерматоглифические исследования полным ходом начинаются только в советское время. Поразительно, но факт, что именно в стране, взявшей на вооружение тезисы интернационализма, расовые исследования получают официальное научное признание (см. П.С.Семеновский “Распределение главных типов тактильных узоров на пальцах рук человека”. Русский антропологический журнал, 1927, т. 16, вып.1-2, с.47-63). Институт антропологии Московского государственного университета организует многочисленные экспедиции в самые разные уголки нашей страны. Крупнейшие советские антропологи А.И.Ярхо, В.П.Алексеев, Г.Ф.Дебец создают теоретическую базу этнической и расовой дерматоглифики. М.В.Волоцкий. Т.А.Трофимова, Н.Н.Чебоксаров совершенствуют методологическую базу исследований.
С самого начала дифференциация отпечатков пальцев начинает производиться на трех уровнях: расовом, этническом и территориальном, - что сразу же говорит о точности метода и большом потенциале его развития. То есть, по отпечаткам пальцев человека устанавливают не только его расу. национальность, но и географический регион, из которого он происходит. Гениальная догадка Гальтона конца XIX века к тридцатым годам века ХХ - го находит свое полное подтверждение при исследовании сотен этнических групп в самых разных концах земли.
Причем потрясающей точности удается достичь на первых порах даже при относительной простоте метода. Выделяют три основных типа попиллярных узоров: дуги, петли и завихрения, к последним относятся еще и двойные петли. Все они представлены на рисунках 1-5
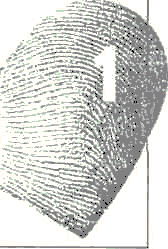

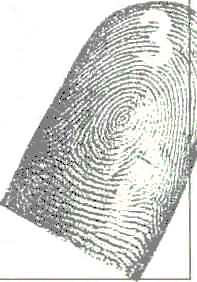
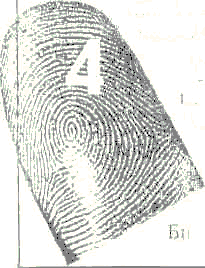
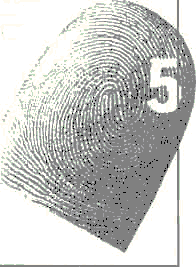
а в таблице (см. ниже) изображены пропорции частоты завихрений, петель и дуг у некоторых народов.
Ведущий немецкий специалист в этой области доктор Эрих Карл в статье “Отпечатки пальцев как расовые признаки и передача их но наследству”, опубликованной в журнале "Volk und Rasse" 1936, №7, дает такое резюме многочисленным исследованиям: “Представители желтой расы во главе с эскимосами имеют больше всего завихрений и меньше всего дуг и петель. У европейцев соотношение противоположное: у них число дуг и петель увеличивается за счет завихрений. Индейцы вплотную примыкают к азиатам, а айну занимают промежуточное положение между желтыми и белыми. Евреи сильно отличаются от европейцев большим числом завихрении и сравнительно небольшим числом дуг. Среди европейских пародов больше дуг и меньше завихрений у северных европейцев, а у южных, наоборот, больше завихрении и меньше луг. Среди северных европейцев больше всего дуг и меньше всего завихрений у норвежцев: за ними следуют немцы, англичане и русские”.
|
|
Завихрения |
Петли |
Дуги |
|
Эскимосы |
72,2 |
26,9 |
0,8 |
Замечателен тот факт, что данная статья была опубликована в 1936 году, когда в Германии была официально взята на вооружение расовая теория, а идеологическое противостояние с Советской Россией, как “азиатской страной” было обозначено со всей решительностью. Однако данные Э.Карла полностью совпадают с данными, приведенными П.С.Семеновским еще в 1927 году, что может говорить лишь об одном: борьба идеологий не имеет никакого отношения к закономерностям развития науки, а немецкая расовая статистика подтверждает советскую, и не в пользу мифа национал-социализма об “азиатских ордах большевиков”.
Исследования продолжаются и в послевоенное время. Архив Института антропологии Московского государственного университета увеличивается. Итогом этой кропотливой научной деятельности стала фундаментальная работа Генриэтгы Леонидовны Хить “Дерматоглифика народов СССР” Москва. Наука, 1983.
Добрая половина книги состоит из многочисленных таблиц сравнительного анализа этнических и региональных групп. Со времени первых публикации на эту тему методическая база уже существенно усложнилась, повысилась точность измерений, как следствие - возросла их достоверность. Теперь уже измеряются: дельтовый индекс, индекс Камминса. осевой ладонный трирадиус t, узорность гипотенара, добавочные межпальцевые трирадиусы, узорность Тh/1, восточный комплекс.
В рамках нашей статьи мы не будем пересказывать научную часть книги, всецело доверяя автору. также, как и непогрешимости авторитета Института этнографии им. Н.Н.Миклухо-Маклая, который эту книгу представлял. Акцентируем лишь наше внимание на выводах, ибо гражданское и научное мужество Г.Л.Хить выразилось в них в полной мере, что многократно повышает ценность данной книги. Цель работы описывается так: “Познание основных закономерностей варьирования признаков любой системы организма на разных таксономических уровнях имеет первостепенную важность для расового анализа и теории расообразования в целом. Расовый анализ основывается на рассмотрении географических вариаций признаков в территориальных группах. выявлении характерных расовых комплексов, типологии этнических групп и локальных рас и определении средних фонетических расстояний между таксонами на разных уровнях”.
Уникальность же метода состоит в том, что группа основных диагностических признаков дерматоглифики занимает особое положение в сравнении с описательными расово-соматическими признакам. Как было доказано американским биологом Артуром Джонсоном, расово-соматический облик человека на 80% формируется его наследственностью, и только на 20% окружающей средой. Измерения ни основе пигментации кожи, волос, глаз, а также антропометрические обмеры головы, лица и тела, анализ с помощью психологических тестов несут в себе известный процент ошибки, вызванной влиянием фенотипа на расово-соматические признаки человека.
Отпечатки же пальцев и дерматоглифические рисунки ладоней и ступней вообще не подвержены влиянию среды и являются абсолютным воплощением нашей расовой и этнической сущности, передающейся из поколения в поколение генетически. Расово-этнические свойства выражены в них в чистом виде, именно поэтому дерматоглифический метод занимает особое положение, как наиболее достоверный. “Автор приходит к выводу, что признаки дерматоглифики, будучи неадаптивными, не подверженными воздействию отбора и тем самым более стабильными по времени, более надежно свидетельствуют о сохранении древних особенностей популяций, чем соматические. Вся система признаков кожного рельефа подвержена жесткому генному контролю. который ограничивает возможности варьирования каждого признака в строго определенных пределах и, более того, делает соизмеримыми степени внутримежгруппового разнообразия признаков. Вследствие этого возникает картина уникальной стабильности дерматоглифического комплекса. (...) Признаки кожного рельефа сохраняются в виде контролирующих генных систем”.
Осознавая точность метода и используя богатый библиографический материал, автор книги ставит себе поистине глобальную задачу: “проследить дерматоглифическую дифференциацию населения значительной части ойкумены от мелких составных частей (локальные группы) до основных составляющих (большие расы)”. Далее Г.Л.Хить, обобщая данные полевых исследований этнических групп на территории СССР. дает строгую аргументированную отповедь евразийцам и прочим проводникам концепции смешения русской крови с азиатской.
Миф о многонациональной стране и как следствие, о расово-нечистом котле из разнохарактерных элементов исчезает под воздействием самого точного дерматоглифического метода расовой диагностики. Тезис о том, что большинство детей у нас происходит из смешанных семей похож на уловку незначительной части смешанного населения, которая желает перенести свои грехи на расово-чистое большинство.
“Монголоиды и европеоиды СССР в целом на всех трех уровнях хорошо дифференцированы со статистической точки зрения. Каждый уровень значимо отличается от всех остальных. При объединении данных степень внутри расовой дифференциации увеличивается, а значимость ее возрастает до максимального порога. Этнический уровень является наивысшим во внутрирасовом масштабе и достигает 70% от величины уровня различий между большими расами. Локальные расы гораздо более гомогенны, чем любые из рассмотренных таксонов”.
Напомним еще раз, что под тремя уровнями подразумеваются деление по расовому, этническому и территориальному признакам. Г.Л.Хить подчеркивает, что даже проживая в пределах одного региона, представители разных рас и этнических групп не подверглись смешению.
Наконец, совершенно великолепны по своей убедительности и однозначности выводы о расовом типе русских. “В европейской части СССР представлены северная ветвь европеоидной расы и типы. промежуточные между северными и южными европеоидами. Установлено, что русские однородны в отношении кожного рельефа и являются носителями наиболее европеоидного комплекса”.
Миф о генетической панмиксии русских всего лишь ненаучная провокация даже не столько против русских сколько против Белой расы вообще.
Наконец Г.Л.Хить подтверждает базовый постулат расовой теории о том, что любой исторически значимый народ имеет расовую основу, в которой его расовые признаки выражены наиболее ярко. Не абстрактные общественные законы влияют на историю, но именно расовые признаки, которые несет в себе народ. Каждый исторически значимый народ имеет одну расовую основу, одно расовое ядро, с помощью которого он диктует свои “правила игры” расовой периферии, то есть расово-нечистым помесям. Египет был создан египтянами. Великая римская империя - латинянами. Китайское царство - китайцами. Российская империя - русскими. Таким образом все разговоры о мультинациональных культурах - всего лишь риторический прием, скрывающий элементарный подлог .
Империи создают расово-чистые народы, а помеси эти империи разрушают. Пионер расовой теории Жозеф Арпор де Гобино говорил: “Ничто не указывает на то, что метисапия создает высшие группы в социальной лестнице общества”. Только расово-чистый тип, гомогенного в своей основе народа имеет желание и возможность выражать себя в исторических формах, создавая свой тип государственности, свое религиозное мировидение, свой культурно - цивилизационный тип.
“На уровне больших рас различия почти целиком должны определяться расовой основой. Сопоставление дает сходную картину: сближение популяций европеоидной группы и заметную удаленность от монголоидов. При этом расстояния между членами европеоидной группы регионов меньше, чем между любыми из них и монголоидами. Следовательно, на уровне больших рас различия между монголоидами и европеоидами полностью зависят от расовой основы”.
Итак, все разговоры о гибельных с расово - биологической точки зрения последствиях монголо -татарского ига- всего лишь вредоносный миф, не имеющий под собой никакой научной основы.
Вывод таков, русские, расово - чистая в своей основе, гомогенная, преимущественно нордическая ветвь европеоидной расы. Самый точный на сегодняшний день генетико -антропологический анализ на основе этнической и расовой дерматоглифики дает совершенно конкретное определение проблемы. Все, кто думают иначе, заблуждаются; все, кто говорят иначе, находятся в оппозиции к нам.
Те, кто не уверены в достоверности данной информации и считают позицию автора этих строк слишком тенденциозной, могут обратиться к открытому официальному источнику (см. энциклопедия “Народы России”. Москва. 1994 г.). где в главе “Расовый состав населения России” сказано: “По приблизительным подсчетам представители европеоидной расы составляют более 90% населения страны и еще около 9% приходится на представителей форм смешанных между европеоидами и монголоидами. Число чистых монголоидов не превышает 1 млн. человек”.
По официальным международным нормам ООН и ЮНЕСКО страна считается монорасовой в том случае, если 66%, или две трети её населения принадлежит к одной расе. Поэтому, когда демократические обществоведы говорят о России как о многонациональной, стране, нужно добавлять: “Хотя многонациональная, но монорасовая”.
Базовая концепция расового ядра была сформулирована выдающимися немецкими расовыми антропологами первой половины XX века: Альфрэдом Плетцом, Вильгельмом Шальмайером, Ойгеном Фишером, Фрицем Ленцем, Гансом Ф. К. Понтером, а также подтверждена данными этнографии и культурной антропологии Рут Бенедикт и Бронислава Малиновского, биологии поведения Конрада Лоренца и Иренауса Эйбл-Эйбесфельдта. Учение о расовой душе наиболее полно развил Людвиг Фердинанд Клаусе. Так что все разговоры о многонациональных государствах и мультикультурных сообществах - блеф.
Даже этих обобщений было бы достаточно, чтобы причислить Генриэтту Леонидовну Хить к числу ведущих расовых теоретиков современности, но ее научный темперамент и гражданское мужество не позволили ей остановиться на полпути. В ее монографии содержатся уже совершенно шокирующие выводы, а перспективы развития ее научного метода поистине не имеют границ. С помощью этой книги открываются новые удивительные возможности для популяризации расовой теории:
“Значение данных дерматоглифики для решения проблем расо- и этногенеза в целом явно и несправедливо недооцениваются. В фундаментальных сводках расового состава земного шара этой системе посвящаются обычно краткие и беглые обзоры с негативными выводами, касающимися лишь нескольких признаков. Целью автора было показать, что кожные узоры при корректном методическом подходе могут явиться неоценимым источником исторической и биологической информации. На громадном по объему материале обнаружено совпадение дифференциации групп и расовых комплексов но признакам кожного рельефа и расовой соматологии. Можно без преувеличения утверждать, что кожный рельеф человеческих рас и популяций - это запечатленная история их формирования. Отсюда вытекает возможность реконструкции основных этапов расообразования в масштабе всего человечества".
Поистине неожиданно, в то же время не может не броситься в глаза, что на сегодняшний день, по уверениям Г.Л.Хить, "библиографический список работ по дерматоглифике включает несколько тысяч названий".
А теперь уважаемый читатель, скажите, пожалуйста, много ли Вы слышали о данной проблеме, с учетом ее столь фундаментальной проработки. Не трудно догадаться, что сокрытие данной информации от широких кругов общественности - следствие умысла, имеющего определенный расовый контекст. Глобальное управление человечеством осуществляется именно из-за массовой расово - биологической безграмотности. "Кто информирован -тот вооружен". - гласит древнейшая поговорка.
Поэтому теперь продолжим цепь стройных, аргументированных рассуждений автора этой книги.
В свете новейших открытии в области генетики возникает перспектива не только глобальной расово -этнической идентификации человечества, в том числе и на региональном уровне, но и возможность детального восстановления всей истории человечества также на уровне рас, народов и регионов. Используя уникальную неизменчивость кожного рисунка пальцев, его полную генетическую обусловленность, можно сколь угодно далеко проникнуть в глубь исторического процесса, восстановить в деталях всю антропологическую историю человечества. Возникновение любой популяции, племени. народа, нации можно теперь проследить с первых периодов расообразования и до наших дней, причем в масштабах всей планеты. Но что особенно важно так это то, что процессы формирования расово - этнических общностей теперь можно будет проследить в их взаимной связи друг с другом. Можно будет понять, какая общность ассимилировала другую, какая, напротив, сама растворилась в других племенах. Можно будет учесть все социальные и биологические силы, динамически воздействовавшие на расовое ядро того или иного народа, причем как угодно глубоко во времени.
Биологические причины и следствия великих переселений народов, рождение культур, религии, империи, а также их закат станут достоянием точных наук, и со всеми догматическими спекуляциями на пиве мировой истории можно будет покончить раз и навсегда.
Расово-этнический чертеж любого государства, независимо от его древности и степени изученности средствами археологии, можно будет воспроизвести с функциональной достоверностью и технической точностью чертежа любого бытового электрического устройства. На основе новых методов дерматоглифики можно будет заново, и теперь уже окончательно, восстановить подлинную политическую, социальную и культурную историю человечества. Возможно будет перечисление всех народов, что содействовали образованию великих государств, и тех, что. напротив, принимали участие в их разрушении. Можно будет точно узнать, как теперь называются потомки тех или иных древних племен. Всякая ложь и фальсификации в межнациональных отношениях не будут иметь под собой никакой почвы. Историзм, как универсальный метод исторического исследования должен будет исчезнуть, а вот расовая нсториософия и ревизионизм имеют все основания пережить второе рождение. Все культуротворящие народы и народы-паразиты возможно будет обозначить, как элементы и периодической таблице Менделеева. Место популяционной генетики в высших учебных заведениях займут политическая генетика и популяционная казуистика. Точно также на основе современной науки социобиологии можно идентифицировать и высчитать народы-доноры и народы - паразиты, и тогда самым естественным образом возникнут, например, такие науки, как социальная паразитология, эволюционная паразитология и биологическая культурология.
Современный исследователь из Германии Йорг Альбрехт в этой связи весьма метко высказался, что теперь возникает перспектива “генетической инвентаризации человечества”. Не гуманитарии отныне должны будут вырабатывать моральные критерии и обществе, а инженеры - системотехники и биологи.
Нет смысла отныне пугать друг друга всякими ужасами об этнических чистках, так как они возникают только в настоящем времени, а на основе новых знаний все гигантское полотно исторического процесса, включающее в себя как прошлое, так и будущее, можно будет разом перетряхнуть, как пыльное покрывало, и выбить из него генетический мусор раз и навсегда.
Создание новых государств теперь может осуществляться не на основе конституционных актов, а на основе этнической, б иологической, социальной и культурной комплиментарности народов и, как следствие, на основе точного расчета оптимальной расово-этнической структуры для данной территории и данного ландшафта. Границы отныне должны устанавливать не политические волюнтаристы, а специалисты в области этнофункционального метода. Исходную расово - этническую матрицу государства можно будет смоделировать с легкостью манипуляций с кубиком - рубиком, тасуя характеристики народов, так же как цвета на его гранях.
Совершенно ясно, что на основе дерматоглифики Iпридется полностью переделывать всю современную теорию государства и права. Почему, например, я как представитель государствообразующего этноса должен платить налоги и подчиняться людям с принципиально отличными отпечатками пальцев? Почему, если еще в далеком неолите, наши пути разошлись генетически? Я должен быть законопослушным только в отношении своих согенников, а в отношении чужих я вообще не обязан иметь подобные обязательства. Благо, что теперь, проблема “свой - чужой” решается за несколько секунд, просто и достоверно.
Мои отпечатки пальцев - это проекция моего расово - этнического архетипа, которым одарила меня природа. Моя этничность и расовая принадлежность не химеры, а научный факт, который совершенно незачем скрывать. В древние времен люди подписывались отпечатками своих пальцев не потому, что были неграмотными, как уверяют нас современные историки, а потому, что они осознавали нерасторжимую взаимосвязь пальцевых узоров со своей этнической и расовой принадлежностью. Собственные отпечатки пальцев под текстом клятвы они воспринимали как знак качества, как фирменное клеймо, которое гордо ставит мастер на свое изделие. Они клялись своей этнической и расовой принадлежностью, как генетическим знаком качества перед лицом мировой истории и перед лицом своего вечного архетипа.
Отпечатки пальцев конкретного человека - это проекция вечного расово-этнического архетипа его племени, во времени и пространстве; это генетически - частное, запечатлевающее свою нерасторжимую связь с генетически - вечным. Это неизменное клеймо твоего рода, это знак качества, сквозь который ты касаешься бытия, входя в историю. Суетное и вечное, низкое и высокое, подлое и героическое - все. что остается от тебя во времени как след твоего пребывания на Земле, отмечено несмываемым тавром твоего племени. Именно это и накладывает обязательства перед лицом предков и потомков, овеществляя неотвратимость кармы.
Современные “демократические” средства массовой информации старательно формируют общественное мнение, усиливая общую расово -биологическую безграмотность.
Никаких различий между национальностями нет. уверяют они, а расовые различия - это абстракция, временное недоразумение, устраняемое факторами сонно-культурной эволюции. Таков вердикт этих фальсификаторов науки, среди которых наибольшую активность проявляет так называемая "школа эволюционистов ".
К их сведению, помимо упоминавшейся дерматоглифики. мы приводим некоторые самостоятельные научные способы расово - этнической диагностики.
Прежде всего, это серология, то есть наука о группах крови, ибо они также имеют жестко обусловленную этническую и географическую систему распределения. В последнее время мощное развитие получили методики на основе анализа компонентов крови и белковых соединений, которые также различаются у представителей разных национальностей. Весьма широкоупотребимым является изучение полиморфных систем крови (ПСК). Еще в 20-е годы в нашей стране был открыт сравнительно простой способ определения национальной принадлежности по крови по методике доктора Е.О. Маноилова. В рамках официальной государственной программы были подвергнуты обследованию русские и евреи. Результаты программы показали с большой степенью достоверности. что у евреев в крови окислительные процессы протекают быстрее, чем у русских.
В более позднее время методы анализа крови получили широкое распространение. Было доказано, что на уровне больших рас и на уровне более частных подрас хорошо заметно специфическое распределение полигенных наследственных факторов белков сыворотки. “Например, по системам иммуно - глобулинов, обеспечивающих защитную реакцию против различных болезней и трансферринов, обеспечивающих нормальную циркуляцию ионов железа в токе крови, отчетливо выделяются большие человеческие расы” (энциклопедия “Народы России”. Москва, 1994).
Это говорит о том, что у людей разных рас и национальностей различаются структуры белка, химико - биологический состав иммунной системы а также электро - магнитные характеристики крови. Наконец расовые примеси сравнительно прочно выявляются на основе такого простого элемента, как ушная сера.
Помимо выше перечисленных систем анализа прогрессируют и традиционные. Начать нужно с краниометрии, то есть раздела антропологии, специализирующегося на обмерах черепа. Название книги Ю.Д. Беневоленской “Проблемы этнической краниологии (Морфология затылочной области черепа человека)”. Ленинград. Наука. 1976, говорит само за себя. Сочинение В.П.Алексеева. Г.Ф.Дебеца “Краниометрия”. М., 1964, является классикой данного направления.
У зубов также есть национальность, и ее выяснением занимается этническая одонтология. В своей книге “Этническая одонтология”. М.. Наука, 1973 г., А.А.Зубов пишет: “Этническая одонтология дает в руки антрополога новый метол расового анализа, основанный на наборе особенностей морфологии зубной системы, обнаруживающем межгрупповые различия вследствие дивергенции человеческих популяций, происшедшей в разное время под влиянием разных факторов”.
Помимо зубов, для нужд расового анализа уже сто лет используют также и волосы, которые у всех также различаются по структуре.
Расово-этническая диагностика человеческого организма проводится и на основе анализа совокупности его биологических параметров, носящего общее название биометрии, (см. Н.А. Плохинский “Биометрия” М., 1970; В.Ю.Урбах “Биометрические методы” М., 1964).
Исследования проводятся и на основе таксономии, то есть на взаимном соподчинении таксономических (систематических) групп народов, отличающихся различной степенью родства (см. Е.С.Смирнов “Таксономический анализ”. М.. 1969 г.). Соматометрия занимается изучением общей конституции, строением тела и ее методы также не устарели.
Существует и весьма действенный метод расового контроля на основе цветных фотографий. (см. О.М. Павловский “О методике цветной фотографии при расовых исследованиях в антропологии”. “Советская антропология”. 1962, вып. 10).
Наиболее точных и впечатляющих результатов удалось достичь в генетике с помощью так называемых генных маркеров. Точность их расово - этнической обусловленности столь высока, что, как объявили средства массовой информации, недавно на их основе в Институте биологических исследований в Нес Циона в Израиле было создано этническое оружие, поражающее выборочно только арабов и совершенно безвредное для евреев, хотя и те, и другие относятся к одной и той же общей передне - азиатской, семитической расе. Специальная дисциплина - геногеография как раз и занимается проблемами изучения территориального распространения групп тех или иных генов. Геногеографическая карта человечества уже давно создана и хорошо известна в штабах разработчиков бактериологического и бинарного оружия.
На базе психологии, психоанализа, сравнительной расовой психологии, сравнительной расовой психиатрии, психологической антропологии и физиологической психологии создано уже огромное количество тестов, идентифицирующих людей на этническом, социальном и культурном уровнях.
Современная психогенетика также достигла впечатляющих успехов в области изучения расовой дифференциации человечества на основе IQ-тестов (коэффициентов интеллекта), которые выявляют наследственную обусловленность интеллекта в зависимости от расовой принадлежности. В этой области нужно упомянуть имена таких признанных корифеев науки, как Артур Дженсен, Уильям Шокли, Дж.Филипп Раштон.
Конечно же, это весьма беглый и поверхностный обзор методов расово - этнического анализа, лишь библиография которого составила бы не одну тысячу наименований. Но и этого будет вполне достаточно, чтобы поколебать уверенность проповедников идей о всеобщем равенстве.
В новой книге авторы Г.Л.Хить и Н.А.Долинова “Расовая дифференциация человечества”. М.. Наука, 1990, приводят уже подробную многостраничную систематизацию расовых, этнических и региональных признаков всего населения Земли, вплоть до мельчайших реликтовых племен. Причем данные дерматоглифики соотносятся с данными соматологии, генетики, одонтологии и других наук, что позволяет говорить уже о создании системной расово - этнической картины человечества, схожей к примеру, с периодической таблицей элементов Менделеева в химии. В качестве универсальной дифференцирующей категории закономерно вводится такое понятие, как расово - диагностический маркер.
“Ключевые признаки дерматоглифики обладают большим запасом расоразграничительной мощности: разница между основными расами в 2-40 раз превосходит свою ошибку. Как показали специальные исследования, внутри расы наиболее четкие различия наблюдаются на этническом уровне: этнический барьер явился самым мощным фактором дифференциации населения в процессе его исторического и биологического развития”.
Принципиально важно то, что выводы, дерматоглифики полностью совпадают с другими биологически независимыми системами признаков, которые были перечислены выше, что многократно повышает точность и достоверность общей картины. В связи с этим авторы книги говорят уже о “сетевом распределении” расово - диагностических признаков по всей планете.
“Каждая из крупных расовых групп человечества обладает неповторимой, только ей присущей комбинацией определенных частот признаков дерматоглифики и их сочетанием. Таким образом, анализ комбинаций признаков убеждает в том. что различия между расовыми стволами имеют сетеобразный характер. Это наблюдение подтверждается также анализом отклонений каждой расовой группы по отдельным признакам и их комплексу. Неповторимыми комбинациями обладают европеоиды и негроиды. Усредняя величину отличиия каждой расы от общечеловеческой выборки по сумме признаков, приходим к убеждению, что максимально близки к человечеству в целом монголоиды и затем австролоиды, максимально далеки негроиды” Если принять, следовательно, гипотезу существования общечеловеческого дерматоглифического комплекса, то следует признать, что наиболее четко он выражен у монголоилов и австролоидов. Европеоиды и, в особенности негроиды более всего несходны с этим “общечеловеческим типом”. Взаимоотношения основных расовых групп имеют стойкий характер. Европеоиды занимают более изолированное положение, максимально специализированы негроиды. Судя но системе таксономических расстояний между расами негроиды являются наиболее древней и специализированной расовой ветвью человечества - менее древней, но также специализированной ветвью являются европеоиды”.
Христианский, позднее марксистский и наконец современный либерально-демократический мифы о видовом единстве человечества должны быть окончательно повержены, как несоответствующие действительности. Новейшие данные дерматоглифики, а также генетики наглядно показывают, что концепция моногенизма, то есть одноочаговости возникновения человека, как биологического вида в расологии является лишь социальным заказом тех политических структур, что управляют миром посредством использования технологий эгалитаризма, то есть всеобщего равенства. Итак. миф о грехопадении Адама и Евы, облаченный в одежды “академической науки”, явил свою постыдную ангажированность.
Человечество имеет несколько совершенно изолированных и никак биологически не связанных между собой центров расообразования. Мало того, эти очаги возникновения различных человеческих рас отстоят друг от друга еще и во времени, вот что очень важно. Основные расовые типы человечества разделяют не только тысячи километров, но и десятки, а возможно и сотни тысячелетий. Поэтом, всякие разговоры о видовом единстве человечества - ненаучная провокационная идея, созданная в интересах тех. кто желает управлять человечеством обманным путем, минуя расовую принадлежность народов.
Г.Л.Хить и Н.А.Долинова дают такое резюме в своей книге: “Основные расовые ветви человечества являются оригинальными, самостоятельно сформировавшимися подразделениями человеческого вида. Совпадающую схему родства человеческих рас получили по генным маркерам и другому набору дерматоглифических признаков”.
Развивая методологию исследований. Г.Л.Хить и Н.А.Долинова проводили в своей новой работе диагностический анализ на основании следующих признаков: дельтовый индекс (DL), индекс Камминса (I), проксимальный ладонный трирадиус (t), узорность гипотенара (Hy), суммарный процент добавочных трирадиусов (ДМТ), узорность тенара первой межпальцевой подушечки (Тh1/1).
Стремительная компьютеризация всех отраслей современной науки позволяет нам говорить уже о развитии самостоятельной прикладной дисциплины - цифровой дерматоглифики. Уникальность рисунка кожных покровов рук уже не первый год используют начальники режимных отделов секретных предприятий. Изображение дактилоскопического рисунка сотрудника предприятия сканируется и заносится в память компьютера, чтобы впредь служить пропуском, идентифицирующим его личность. В отличие от ключей, магнитных карт, шифров и паролей, отпечатки пальцев невозможно подделать и присвоить. А это, в свою очередь, со стопроцентной гарантией закрывает доступ нежелательных лиц к секретной информации.
Главное же преимущество дерматоглифического метода, помимо его точности, состоит в сокрытии момента самого анализа. Невозможно сделать обмер черепа человека, анализ его зубной системы, а также анализ его крови, не заметно для него. Отпечатки же пальцев можно взять практически у каждого без его ведома. Проникнув в базу данных компьютера, хранящего сведения об отпечатках пальцев сотрудников, можно безошибочно определить расовый, этнический и даже региональный состав их происхождения, причем даже не видя никого из них в лицо. Если некий человек согласно официальной анкете представляется уроженцем конкретной местности и предъявляет хорошо подделанные свидетельства о рождении и обучении, метод цифровой дерматоглифики моментально изобличит фальсификатора, ибо по узорности рисунка на пальцах можно увидеть, что родился он. например, не в Москве, а в Нью-Йорке, даже если и похож при этом на москвича.
Все мы помним популярный телевизионный сериал “Семнадцать мгновений весны”. Советский разведчик под личиной офицера СС Штирлица был раскрыт именно на основе анализа отпечатков пальцев, которые у него взяли не заметно для него:
“Штирлиц, принесите нам стакан воды”. Ему удалось избежать провала лишь потому, что его отпечатки пальцев идентифицировались на самом низком уровне криминалистической экспертизы, на совместимость с изображениями других отпечатков. Если бы он был подвергнут более серьезной расово -этнической диагностике, например, но методике доктора Эриха Карла, описанной в журнале “Volk und Rasse”, ему не удалось бы избежать провала. Хотя в его личной анкете было записано “истинный ариец”, дерматоглифический контроль однозначно засвидетельствовал бы, что этот человек родился не на территории Германии. Как метко заметил выдающийся немецкий расовый теоретик Фриц Ленц:
“Никто не может вылезти из своей кожи, так же как и из своей души”. Показателен и другой пример.
В современной расологии достаточно широко применяется такой термин, как пассинг (passing), обозначающий, что метис, происходящий от различных в расово - этническом отношении родителей, при переезде на новое место жительства, используя методы простейшей маскировки, выдаст себя за чистокровного представителя одной из рас родителей. Чаще всего метисы симулируют европейцев. Очевидно, что популяризация дерматоглифики положит пассингу конец.
Г.Л.Хить и Н.А.Долинова ясно пишут: “Из всех европеоидов европейцы наиболее своеобразны”. Это значит, что чистокровный европеец всегда будет идентифицирован на фоне сходных в расовом отношении европеоидов. Именно этот же тезис вновь отлично подтверждает концепцию “расового ядра”, у представителей которого неповторимые расовые признаки выражены со всей очевидностью.
Отныне это означает, что со всякой фальсификацией на расово - этнической почве будет покончено, и это повлечет за собой настоящую революцию во всех социально-экономических, религиозных, культурных отношениях. Теория государства и права неминуемо подвергнется ревизии, рухнут конституции и “Декларация прав человека”, который раз вновь перекроится политическая карта мира. Но новое положение вещей будет уже соответствовать не интересам торговцев мифа о равенстве, а подлинной природной и неподдельной иерархии народов и рас. Мировой банковский капитал, основанный на ссудном проценте, утеряет основу, и ростовщические состояния лопнут. Переворот в мировоззрении людей планеты будет принципиальным и ни с чем несравнимым. Конец эпохи гуманистических ценностей совпадет с окончанием очередной эры в истории человечества. Согласно зороастрийской эсхатологии “Эпоха Смешения” завершится и ей на смену придет “Эпоха Разделения”. В свете новейших научных открытии становится совершенно очевидным, что предсказание персидских жрецов имеет также и биологическую подоплеку, ибо смешение нужно понимать в сугубо расовом смысле.
К числу выдающихся отечественных расовых теоретиков принадлежит и Виктор Алексеевич Спицын. Однако известные идеологические штампы советской интернационалистической антропологии не позволили в полной мере повлиять его открытиям на общественное сознание.
Прекрасная книга В.А.Спицына “Биохимический полиморфизм человека”. М., 1985, была издана мизерным тиражом - всего 980 экземпляров. В ней он с помощью генетико - биохимического анализа не только подтвердил все основные выводы дерматоглифической методики Г.Л.Хить и Н.А.Долиновой, но и пошел дальше, сформулировав целый ряд новых важнейших положений расовой теории. Во введении автор пишет:
“В результате многочисленных исследований было установлено, что альтернативные формы белков, находящиеся под строгим генетическим контролем, очень неравномерно распределены среди народов Земного шара”. Используя обширный зарубежный материал и собственные наработки, В.А.Спицын в своей книге говорит "о глобальном распределении групп кропи и других наследственных полиморфизмов у человека", а также о “выявлении возможных связен между частотами распространения определенных маркеров генов и болезнями".
Генетические маркеры выводятся на основе математических формул, по которым производится расчет глобальных миграционных процессов мировой истории. Генетико - биологические изменения в человеческие сообществах вычисляются с высочайшей степенью точности. Расовая дифференциация из туманных патетических образов буквально на глазах воплощается усилиями автора в структуру беспристрастных научных определений. Различия между людьми определяются на молекулярном уровне. Перейдем к фактам.
Частота генов системы трансферрина (Тf) увеличивается в ряду “монголоиды - европеоиды - негроиды”. Именно с их помощью производится и более детальная дифференциация этнических групп. В США в городе Сиэттле в Центральном банке крови уже разработаны и применяются этнические стандарты крови. В Москве в ходе исследовательской программы также было установлено, что этнические русские заметно выделяются среди других этнических групп многонациональной Москвы, именно на основе системы трансферринов. Группоспециальный показатель (Ge1) у евреев выше, и различает их и русских. На основе компонентов сыворотки крови также ясно видны этнические различия, причем именно генетически обусловленные.
Распределение генных частот по системе Спицына показывает, что основные человеческие расы на биохимическом уровне отличаются друг от друга на 30-40%. Выражаясь на языке. Библии Бог лепил нас из разной глины, потому что между различными породами животных биохимические различия и то меньше. “Человечество с его общечеловеческими ценностями” - это генетически неопределяемый фантом. По этой же схеме можно установить, что русские явно и отчетливо отличаются от татар, евреев и даже украинцев.
По ряду биохимических показателей ушной серы различия между основными расами достигают 4-6 раз, что позволяет использовать ее как удобный и ярко выраженный расово - диагностический маркер.
В.А.Спицын поэтому выводит соответствующий обобщенный коэффициент генной дифференциации (Gst), позволяющий эмпирически высчитывать степень чужеродности народов. Им также вводится и обосновывается такое понятие, как генетическое расстояние (D), служащее для определения совокупности расовых различий между народами. На основе этих математических формул выводится генетико - биологическая иерархия рас и подрас. Далее дастся понятие времени генетического расхождения (t) народов и рас в мировом историческом процессе.
Дальнейшие выводы и обобщения автора вновь поражают сочетанием глобального охвата проблемы с математической точностью ее решения.
"Методы анализа генетических расстояний и построения филогенетических древ позволяют решать задачи генетико - антропологических классификаций, определения степени дивергенции популяции, оценки времени, прошедшего с момента разделения соответствующих ветвей древа. Более важной проблемой, однако, представляется попытка оценки продолжительности пребывания той или иной группы населения на данной территории, а также непосредственного определения динамики формирования этнорасовых общностей. В этой связи исследование характеристик мирового распределения факторов системы иммуноглобулинов (Gm) позволит подойти к решению поставленных выше вопросов.
Уникальность генетической системы Gm заключается в том, что каждая из крупнейших рас обладает характерным, свойственным лишь ей генным комплексом Gm, причем такие маркирующие гаплотипы представлены максимальными значениями частот".
Совершенно очевидно, что на основе подобных методик всяким спекулятивным рассуждениям о “коренных и некоренных народах” и “многонациональных культурах” решительно будет положен конец, а конституционное определение “государствообразующего этноса” получит математическое определение, исключающее ошибки. Формулы народов-созидателей и народов-паразитов также возможно будет рассчитать.
Обобщая международный и статистико-аналитический опыт, В.А.Спинын дает точные формулы частот генных маркеров в системе иммуноглобулинов для основных человеческих рас, соответствующие их максимальной чистоте:
|
европеоиды |
Gm 3,5,13,14 |
|
монголоиды |
Gm 1,3,5,13 |
|
негроиды |
Gm 1,5,13,14,17 |
Человек, знакомый с математикой, легко заметит, что это три совершенно различные и никак не связанные системы характеристик.
Далее В.А.Спицын подчеркивает, что “в Европе европеоидный Gm 3,5,13,14 с высокой частотой представлен на севере континента”. Таким образом определяется, что наиболее расово - чистые европеоиды представлены на севере Европы, что как раз и соответствует ареалу происхождения и распространения нордической расы.
Следовательно, понятие расовой чистоты из области журналистских споров переходит в область точной науки.
Из этого явствует, что расовая чистота - явление не мифологическое, а генетическое. Отныне расовая теория должна основывать свои тезисы не на поэтических образах, а на генетическом анализе и математических формулах. Базовый постулат расовой теории о том, что нордическая или ксантохроидная, то есть светловолосая, голубоглазая часть большой европеоидной расы является наиболее генетически чистой и следовательно, более ценной ее частью, можно считать научно доказанным.
В пользу этой точки зрения свидетельствует и другой расовый параметр. “Уменьшение концетрации гена (Ра) с севера на юг прослеживается внутри каждой из больших рас”. Максимальной своей концентрации ген (Ра) достигает у европеоидов именно но мере уменьшения солнечной радиации. Именно поэтому ген (Ра) можно назвать нордическим геном. Альтернативный ген (Рв), наоборот, возрастает в условиях жаркого климата и именно у представителей южных рас. Соответственно у черной и желтой рас есть свои критерии генетической чистоты.
Генетическая основа пигментации кожи имеет также весьма важную расоразграничительную функцию. В.А.Спицын в этой связи пишет: “Известно, что густой слой меланина у темнокожих рас, препятствуя проникновению в глубокие слои кожи ультрафиолетовых лучей, создает почву для заболевания рахитом. Этим объясняется наличие компенсаторного механизма, выражающегося в том, что у людей, живущих в тропиках, отмечаются обильные выделения сальных желез. значительно более крупных, чем у европейцев”.
Древние мифы и сказания народов всей земли о белокурых и белокожих красавицах, а также их более высокая цена на азиатских невольничьих рынках есть всего лишь результат генетической зависти цветных рас. Мифология, история и эстетика в этой области вместе с генетикой оказывают самое сильное сопротивление либеральному всесмешению. Расовая чистота - это первый закон самой природы, сорняки и выродки же противны ее законам.
У европеоидов частота гена (Gc) не должна превышать 10%, в то время как у негров она превышает 30%. Именно частота этого гена и сопряжена с характерным негритянским запахом.
Итальянский биолог Ренато Биасутти создал Мировую карту цвета кожи, где каждый оттенок имеет порядковый номер по шкале Лушана. Самое же главное состоит в том, что В. А. Спицын ясно свидетельствует: “Не имеется данных о связи между климато - географическими факторами и распределением факторов Gm”.
Это говорит о том, что расовые признаки носят неадаптивный характер, среда на них вообще не оказывает никакого влияния. Цвет глаз, волос, кожи и т. д. - это не результат приспособления человека к соответствующим условиям окружающей среды, это скорее генетические украшения, которые раздала природа различным расам, исходя из естественного принципа “каждому свое”.
Главный же наш вывод таков: отечественная расовая теория в условиях господства коммунизма не прекращала своего существования и продолжала развиваться, поэтому новая русская расология может выводить свое правопреемство не только из классической расовой теории, но и из лучших независимых работ советской эпохи, которые входят в почетный фонд мировой расовой мысли.
Русские - это определенная генетико - биохимическая конституция, а не те, кто прикрывается русским языком и русской культурой. Расовые и этнические различия - это не условности и не предрассудки, а генетический факт, вычисляемый с математической точностью.
Выше цитированные научные работы прошли совершенно незамеченными в отечественных научных и общественных кругах, а вот книга канадского профессора Дж. Филиппа Раштона “Эволюция и поведение рас” на Западе произвела настоящий фурор. В ней автор, основываясь на результатах других методов исследования. пришел к аналогичным выводам. И этой книге пророча'! судьбу классическою труда но расовой проблеме наравне с такими шедеврами как “Раса” Джона Бейкера. “Отклонения при исследовании интеллекта” Артура Дженсена. “Социобиология: новый синтез” Эдварда Уилсона и “Биология человеческого поведения” Ирснауса Эйбл-Эйбесфельдта.
Основные различия между расами объясняются Дж.Филиппом Раштоном на основе стратегии воспроизведения своего вида. которая составляет биологическую суть любого живого существа. Именно в сфере размножения различия между человеческими расами также наиболее очевидны и ощутимы. Одной крайностью является стратегия “р”. ее отличает максимальная плодовитость организма при минимальной заботе о судьбе своего потомства. Типичный пример - устрица. Каждый год она откладывает в океан миллионы яичек и бросает их на произвол судьбы. Почти все они умирают, и лишь некоторые становятся взрослыми особями. Чем примитивнее популяция, тем она плодовитее. Среди людей это правило соблюдается также неукоснительно. Афро - американиы, цыгане и некоторые народы Азии отличаются плодовитостью, уделяя ничтожно малое внимание заботе о воспитании подрастающего потомства. Именно стратегия размножения является причиной высокой детской смертности у этих народов, а никак не “социальные язвы последствий колониализма”. Ни Красный крест, ни другие гуманитарные организации ничего не смогут сделать, ибо не в состоянии переделать стратегию размножения этих народов. Благие помыслы не влияют на физиологию устриц и им подобных. Взывать к чувствам сострадания культурных народов совершенно бесполезно. Укорять их достатком бессмысленно, потому что у них принципиально другая стратегия размножения - “К”. В ее основе лежит минимальная плодовитость при максимальной заботе организма о своем потомстве. Стратегия “К” характерна для более высокоразвитых существ.
Как следствие данных стратегий воспроизведения у различных человеческих рас различается и инструментальная часть, этому воспроизведению служащая. Первыми с этим столкнулись ничего не подозревающие международные гуманитарные организации, занятые борьбой со СПИДом, ибо очень скоро обнаружилось на практике, что один размер презерватива в условиях открытого общества и декларируемого равенства не может удовлетворить всех желающих защититься от “чумы XX века”. Расовая проблема вновь ожила на качественно новом уровне. Совершенно очевидно, что представители стратегии "р", занятые количественной стороной вопроса превосходят представителей стратегии “К” по размерам и иным функциональным характеристикам инструментальной части воспроизводства вида. У азиатов они меньше всего и существенно отстают от негров и европейцев. О разном возрасте полового созревания у представителей различных рас было известно давно, но теперь на основе биологии поведения, сексологии и психоанализа к этому добавились неопровержимые доказательства того, что отношение к сексу, включая приоритетные позы при половом акте, также имеет подобные же кардинальные различия. Стратегия "р - К” говорит сама за себя. Организм окружает' вниманием объект своих вожделении в точном соответствии с ней.
Существенно различается и усредненный коэффициент интеллекта у представителей различных рас, так у европейцев он равен 100, в то время как у африканцев около 70. Приблизительно в такой же пропорции различается и скорость реакции.
Дж. Филипп Раштон пишет: “Головы больших размеров (содержащие более развитые мозги) находятся в прямой корреляции с интеллектом. Большие головы имеют тенденцию блистать своим интеллектом. Эта корреляция верна и по отношению к разным расовым группам. В возрасте семи лет африканские дети на 16% больше европейских детей, зато периметр их мозга на 8% меньше. У азиатов периметр мозга как будто больше, чем у европейцев, но некоторые из этих результатов проявляются после коррекции, когда принимается во внимание тот факт, что азиаты в среднем меньше европейцев. Предполагается, что маленький человек с мозгом человека больших размеров имеет более развитый мозг, поскольку телу меньших размеров нужен меньший мозг для управления своими жизненными функциями.
Африканцы имеют в голове примерно на 480 миллионов нейронов меньше. С маленьким мозгом в большом теле они менее одарены интеллектуально, потому что большая часть мозга негров занята жизненными функциями, а не сознательными мыслями”.
Расовые различия, индикатором которых выступает “р - К” - структура, сказываются и в сфере преступности, склонности к суициду, а также употреблению наркотиков. Белые больше склонны к фрустрации и мыслям о самоубийстве, африканцы же, в свою очередь, предрасположены к наркомании, совершению криминальных поступков и психическим отклонениям. У азиатов, наоборот, приступы тоски наблюдаются чаше, а психические заболевания встречаются реже, чем у европейцев и негров.
Наконец склонность к альтруизму и стратегия социальной адаптации также, по мнению профессора Раштопа, имеют расовую обусловленность: “Если альтруизм - важная характеристика “К”, то преступность параллельно ассоциируется с фактором “р”. Далее канадский ученый остроумно подмечает, что “гены также выступают в роли брачных агентов”, ибо представители каждой расы имеют свои врожденные критерии оценки красоты и иных достоинств противоположного пола. Поэтому расовая однородность является неоспоримым благом для каждого общества. “Пчелы и мурашки дают доказательства необыкновенного альтруизма, они умирают. спасая свою колонию, потому что их система воспроизводства приводит к тому, что рабочие особи имеют 75% общих генов. Обезьяны и белки могут обнаруживать генетические различия внутри своей группы, но более склонны к сотрудничеству с наиболее генетически близкими им особями”.
Профессор Раштон считает, что совокупность различий структуры характеристик “р - К” имеет в значительной степени генетическое происхождение и хорошо пригодна для определения как классовых. так и расовых различий. Все психологические аспекты жизнедеятельности человека также находятся под сильным воздействием наследственности.
“Даже маленькие дети осознают расовые различия и имеют соответствующие предпочтения. Этноцентризм и “расизм” - это естественные механизмы, заключенные в геноме человека. Структуры поведения, различающие, как расы между собой, так и индивидуумов внутри каждой расовой группы, отражают структуру “р - К”, и без нее не обойтись при составлении любых социальных программ”. Великий немецкий расовый теоретик барон Эгон фон Эйкштедт поэтому справедливо утверждал, что “расовые различия возникли еще до того, как появилось само человечество”. Польский же антрополог Людвик Крживицкии в одной из своих книг привел любопытные данные опросов людоедов в разных частях земли: все они утверждали, что различают людей различных рас и национальностей по вкусу.
Таким образом в свете новейших исследований в области наследственности человека становится совершенно очевидным, что многие критерии общественных ценностей должны быть подвергнуты решительной ревизии. Переосмысление неизбежно затронет множество современных гуманитарных наук, что неизбежно повлечет за собой структурную перестройку и официальных общественных институтов власти. Межнациональные отношения приобретут новую специфику, роль биологического детерминизма резко возрастет во всех сферах жизни, включая искусство, образование и религию. Само понятие человечности изменит свой статус, историки будут вынуждены начать переписывать историю, а философы должны будут дать благословение человеку новой грядущей расы.
Вырождающийся вид "homo sapiens" тихо и незаметно должен будет сойти с исторической сцены, подобно неандертальцам и австралопитекам. И вновь никто не будет знать почему это произошло. Но это в будущем, а уже сейчас на основе методов дерматоглифики, серологии, а также с помощью генных маркеров можно с высокой степенью точности восстановить расовую чистоту нашего вида. Расовое ядро может быть в кратчайшие сроки очищено от чужеродных примесей. Евгеническое облагораживание расы в целом теперь должно осуществляться не устаревшими скотоводческими методами, а на основе генной терапии. Уже сегодня в теле живого человека можно проводить расовую ревизию клеток, вычищая из него расовые загрязнения, доставшиеся от непредусмотрительных предков. Кроме того с использованием более точных методов можно будет откорректировать и улучшить пропорции человеческого тела. В общих антропометрических методах, как мы помним, погрешность при вычислениях выше ввиду влияния среды на соматическую структуру человека. Генетические же методы способны исключить погрешность, привносимую средой, помогая тем самым создать представителей расы, близких к идеалу. А с помощью клонирования численность очищенных, наиболее ценных народов можно будет увеличить до многомиллионных популяций при жизни одного поколения. Культурные народы, несущие на своих плечах бремя мировой цивилизации, больше не будут похожи на стаи пегих дворовых голубей.
Чистота породы, сила, здоровье и самодостаточность вновь станут обычным, повседневным явлением, а не ностальгическими образами из народных сказок. Повышение качества человеческого материала неизбежно повлечет за собой повышение всех норм качества культуры и цивилизации. Исчезнут гипертрофированные межэтнические противоречия. Политики больше не смогут сталкивать людей нашей расы в братоубийственных гражданских войнах. Расовый инстинкт белого человека будет восстановлен в своих правах и видовое сознание прочно встанет над всеми социальными, религиозными и национальными объединениями. Консолидация вновь будет возможной на основе закономерной наследственности, а не в силу капризов изменчивой среды. Деятельность каждого гражданина на благо расы станет залогом его уверенности в бессмертии, которое он обретет в своих потомках.
Бессмертие индивидуума в бессмертии расы. Какой другой моральный императив может сравниться с этим по силе и простоте. Впервые наши Боги даровали нам шанс изменить судьбу расы к лучшему. Уже сегодня мы можем смоделировать идеального нордического человека времен расцвета экспансии Севера против бескрайних просторов Азии.
Мы сможем вновь явить миру нескончаемые волны высокорослых, атлетически сложенных, длинноголовых блондинов, покоряющих на своем пути пустыни, леса, снега и представителей туземных рас.
Еще одно новейшее изобретение дает нам реальную возможность поставить под полный контроль сам процесс расогенеза, и тогда действительно наступит конец истории, который предсказывали еще ветхозаветные пророки, а ныне пророчит Фрэнсис Фукуяма. Но придать смысл и форму концу истории мы сможем по своему усмотрению, главное чтобы победа в конце концов была нашей. Это будет всего лишь закат существования вида homo sapiens, на месте которого возникнет сверхчеловек новой сверхрасы.
Этим подлинно революционным открытием, последствия которого еще не оценили в полной мере фантасты и моралетворцы, является волновой геном.
В его основе лежит обобщение данных медицины и генетики, наглядно свидетельствующих о наличии волновой природы сигналов, управляющих генной активностью. Поданной проблеме существует уже достаточно обширная библиография, но мы в рамках нашего эссе остановимся лишь на одной работе, как нам кажется, предельно ясно иллюстрирующей наши тезисы: Элеонора Николаевна Чиркова “Волновая природа регуляции генной активности. Живая клетка как фотонная вычислительная машина”. Москва, 1992.
Известно, что любые, совсем не похожие друг на друга, клетки одного и того же многоклеточного организма содержат один и тот же набор генов (фрагментов ДНК), полученных организмом от матери и отца при оплодотворении. Для разных частей клеток эмпирическим путем установлены величины резонансных частот, вызывающих активизацию тех или иных групп генов в желаемом направлении. А это, в свою очередь, позволяет регулировать механизм биологических часов клетки, задавая ей те или иные параметры роста и жизнедеятельности. В результате мы имеем возможность регулировать геном человека в целом с помощью монохрамотического излучения. Помимо лечения патологических отклонений на клеточном уровне, о котором говорится и упоминавшейся статье, мы, естественно продолжая нашу мысль, можем также регулировать и генетически обусловленные расовые параметры человека на том же самом клеточном уровне, причем совершенно безболезненно для него. В силу того. что с помощью генных маркеров, данных дерматоглифики и анализа компонентов крови мы можем безошибочно устанавливать расово-этническую и территориальную принадлежность любого человека, 'то, влияя на геном человека в заданных диапазонах частот средствами новейшей магнитно-лазерной терапии, мы можем уже сегодня создать новые очаги расообразования и управлять самим процессом расогенеза во времени. Что характерно, методы диагностики и управления этими процессами могут быть сугубо конфиденциальными и не доступными контролю со стороны общества. Нужно четко понимать, что все глобальные превращения в истории осуществляются не во имя человека как такового, но в интересах конкретного доминирующего биотипа, с целью подчинения и вытеснения конкурентов.
Наша главная цель, в связи с этим, предельно ясна - создание новой сверхсовершенной белой расы на основе лучших биологических компонентов существующей белой расы, нравственная и физическая деградация которой достигла предела. Вторая, также весьма важная задача, - создание новой концепции истории на основе новейших биогенетических методов.
Обе эти задачи и помогут нам выработать новую парадигму в расологии, контуры которой мы и попытались обрисовать в нашем эссе.
РАССУЖДЕНИЕ О РАСОВЫХ ПРЕДРАССУДКАХ
Владимир Авдеев
«Естественное неравенство между отдельными особями, племенами и расами есть общий принцип в организованном мире». И. И. Мечников «Ясная мысль, сильная воля и глубокое настроение идут параллельно чистоте крови и соков организма и стоят в строгом соответствии с ними».
И. А. Сикорский
 Средства
массовой информации утопили в недрах общественного сознания множество
стереотипов, подобных неподъемным валунам. «Реакционность», «фашизм»,
«тоталитаризм», «мракобесие», «национализм», «шовинизм», «расизм» и т. д.
Средства
массовой информации утопили в недрах общественного сознания множество
стереотипов, подобных неподъемным валунам. «Реакционность», «фашизм»,
«тоталитаризм», «мракобесие», «национализм», «шовинизм», «расизм» и т. д.
Дрессированное сознание обывателя послушно воспринимает эти штампы, будто тяжеловесных монстров из фильмов ужасов, имеющих инфернальное неземное происхождение и подчиняющихся своим запредельным физическим законам. Каждого из вышеперечисленных понятий вполне достаточно, чтобы разбудить в человеке тревогу и превратить его в рептилию, виляющую хвостом в конституционном вольере политической корректности. В ряду этих чудищ либерального сознания одно начисто выбивается своей противоестественностью и зоологической несообразностью. Имя этого странного мутанта - «расовые предрассудки».
Едва попытаешься представить себе, что это такое, как сразу же сталкиваешься с проблемой нелогичности и невоплотимости этого идеологического клише.
Предрассудок - это то, что в буквальном смысле этого слова стоит перед рассудком, предшествует ему, то есть нечто, явно относящееся к докультурным, досоциальным, архаическим, инстинктивным пластам сознания. Предрассудок - это психогенетическая программа предшествующего опыта, требующая слепого повиновения.
В случае же с предрассудками расовыми, о которых повествуют современные медиа-гуманисты из телевизионных программ новостей, речь идет о враждебном и недоброжелательном отношении к человеку, имеющему иные, отличные от ваших, расовые признаки, которые легче всего распознать по его внешности и поведению.
Причем в это понятие сегодня принято вкладывать отрицательный, резко негативный смысл. Изобличая человека в расовых предрассудках, ему дают понять, что он мыслит устаревшими и, следовательно, дурными категориями. Это плохо, потому что это пережиток -вот основной этический смысл данного словосочетания, культивируемого в массовом сознании обывателя. Предрассудок - это нечто отжившее и потому требующее устранения. Таков сегодняшний морально-логический контекст употребления этого выражения. То есть за счет банальной этической спекуляции оценку понятия изменили с положительной на отрицательную. Расовые предрассудки - это расогенетическая программа Вашего рода, и если бы она была неправильной, отжившей и требующей устранения, то Вас просто не было бы на свете.
Расовые предрассудки - это концентрированный эволюционный опыт предков, доказавших самим фактом Вашего существования правильность своей жизненной стратегии.
Если бы все необъятное природное царство в одночасье истолковало понятие расовых предрассудков в духе интернационального свального братания, воспеваемого трубадурами общечеловеческих ценностей, то последствия этого трансгенного блуда превзошли бы апокалиптические видения своей кошмарной красочностью. Трудолюбивый шмель в духе ООНовских деклараций принужден был бы нести животворную пыльцу не благородному цветку, но сорняку-паразиту, а гиббон - сластолюбиво воззриться на какую-нибудь макаку. Все иерархически систематизированное природное царство в одночасье превратилось бы в бродвейское шоу трансвеститов.
В других индоевропейских языках, помимо русского, мы наблюдаем сходную этимологию слова «предрассудок». Соответствующие ему французское «Prejuge» н английское «ргеjudice» восходят к латинскому термину. «ргаеjuicium», означающему «предварительное решение суда», а в другой версии служащее предостережением. Греческое слово «предрассудок» - «прокрима» происходит от глагола «прокрион», имеющего смысл «выбирать», «отдавать чему-либо или кому-либо предпочтение». Корень «крима» также означает «решение», «приговор», «суд».
Сложное по составу немецкое слово «Vorurteil» тоже обозначает «предрассудок». Оно восходит к слову «urteil», которое означает «мнение», «суждение», но также - «приговор», «решение суда». Но и это слово разделяется на «teil» - «судьба», «участь», «доля», «жребий» и универсальную приставку «ur», прибавляемую в тех случаях, когда речь идет о чем-либо изначальном, исконном. Как видите, даже простейший лингвистический анализ наглядно показывает, что наши индоевропейские предки, объединенные не только общностью языка, но я общностью морали, и не помышляли глумиться над этим словом, возводимом имя к архетипическим, изначальным основам бытия, которым надлежит поклоняться не только как приговору мирского суда, но и как высшей родовой участи. Закономерно, что и словосочетание «расовые предрассудки» при правильном объяснении их) значения никак не может нести в себе отрицательную негативную оценку, которую ему силятся придать новомодные жонглеры этическими ценностями.
Если бы не было расовых предрассудков, то не сохранились бы и сами расы!!!
Расовые предрассудки любого биологически полноценного человека основываются на фундаменте двух взаимосвязанных врожденных явлений человеческой психики. Во-первых, на антропоэстетических канонах красоты, присущих его расе, и во-вторых, на осознании ценностного критерия, порождаемого этими канонами. Каждая раса сама в себе несет представление о прекрасном и безобразном, и в связи с этим вырабатывает свою шкалу оценок и свои критерии морали. Инородное, в прямом смысле этого слова принадлежащее к другому роду, отторгается организмом человека в соответствии с биомедицинскими законами о «норме реакции». Эта реакция отторжения, свойственная любому здоровому организму, борющемуся за жизнь, закономерна как при трансплантации донорских органов, так и при неприятии систем морали и эстетики. Иммунная система организма неустанно будет отторгать чуждые как материальные ткани, так и материи умозрительные.
Бурный рост естествознания последних двух веков не противоречит этимологии слова «предрассудок». В середине XIX века зоолог и путешественник Г. Радде писал: «Тот, кто испытал себя с известною удачею в области наблюдений за органическим миром, вскоре начинает пугаться слова инстинкт и признавать за животным умственные соображения, более или менее изменяемые в видовом отношении». Естествоиспытатель Г. Романеc в это же время полагал: «Инстинкт есть рефлекторная деятельность, в которую вносился элемент сознательности». Известный немецкий психолог Карл Густав Карус опубликовал в 1863 году монографию «Сравнительная психология», чем в сущности заложил основу изучения эволюционной психологии человека и животных. Возникновение после этого целой науки под названием «зоопсихология» утвердило простейший факт, что все животное царство существует и развивается только за счет расовых предрассудков, соблюдая по неграмотности свою иерархическую генетическую чистоту.
Отечественная наука поддерживает данный взгляд. Спустя сто лет крупный советский психолог Л. А. Орбели основываясь на новейших экспериментальных данных из области эволюционной теории, утверждал, что те формы поведения, которыми отличались наши предки, жившие миллионы лет тому назад, «все в нас гнездятся и при определенных условиях выплывают на сцену». Современный биолог В. Л. Деглин считает: «Для каждой реакции организма, для каждого рефлекса существует своя определенная кодовая «модель», предвосхищающая форму их эффекторного проявления. Модель безусловного рефлекса имеет врожденный характер». М. В. Волькенштейн в книге «Физика и биология» (М., 1980) свидетельствует: «Основной физико-химический принцип эволюция заключается в том, что однажды приобретенная биологическая (генетическая) информация не утрачивается. На каждом этапе развития не происходит случайного перебора всех возможных мутаций, так как подавляющая доля мутаций не участвует в отборе и отбор идет лишь между мутантами, совместимыми с условиями существования уже сложившихся организмов. Следовательно, эволюция «канализируется» и «ускоряется».
Известный философ-неокантианец Герман Коген (1842-1918) писал: «Мы -евреи - должны признать, что расовый инстинкт никоим образом не является варварством, а лишь естественным и законным запросом с национальной точки зрения». Лауреат Нобелевской премии за изучение биологии поведения Конрад Лоренц (1903-1989) также понимал под инстинктом «все те психологические механизмы поведения, которые произошли в результате эволюции, направленной на сохранение вида, а не являются индивидуальными модификациями, обусловленными обучением».
«Современный словарь социологии», изданный в США в 1969 году, также определяет: «Предрассудок есть универсальное явление и вечная проблема общественной жизни». «Словарь по общественным наукам», подготовленный ЮНЕСКО в 1964, трактует «предубеждение» как «установку, вытекающую больше из внутренних процессов самого носителя, чем из фактической проверки свойств группы, о которой идет речь».
Выдающийся немецкий антрополог и этнограф Адольф Бастиан (1826-1905) справедливо утверждал, что задачей антропологии является необходимость «добыть первичную мысль». В соответствии с эволюционной биологией, психогенетикой и лингвистической семантикой становится очевидным, что этой «первичной мыслью являются расовые предрассудки».
Врожденные эстетические представления, функционально обеспечивающие репродуктивное воспроизводство расы, также находятся в русле этого «канала эволюции». Иммануил Кант в книге «Аналитика прекрасного» отмечал, что «прекрасное познается без посредства понятия». Величайший расовый теоретик XX века Фриц Ленц (1887-1976) в одной из своих базовых работ «Раса как основополагающий ценностный принцип» писал: «Уже будучи детьми, мы отличаем красивых людей от безобразных - задолго до того, как приобретаем опыт таких вещей или с помощью сравнения образуем эстетическое чувство. Такие различения мы делаем инстинктивно, поскольку носим образ нашей расы в самих себе». Философ-структуралист Клод Леви-Стросс (род. в 1908) недаром назвал это «зоологическим мышлением», а Конрад Лоренц - «врожденными моделями». Крупнейший современный специалист в области биологии поведения Иренеус Эйбль-Эйбесфельдт (род. в 1928) идентификацию по принципу «свой - чужой» определяет как «врожденный биологический фильтр». Знаменитый русский эстетик и теоретик культуры М. М. Бахтин также свидетельствовал: «Физические кондиции человека, взятые как биологический феномен, докультурны».
Кант писал о существующих априорно, до всякого опыта, врожденных формах воззрения и категориях мышления. Даже причинность он считал категорией мышления. Один из основоположников «философской антропологии» Арнольд Гелен (1904-1976) полагал, что человек от природы «культурное существо», и уже филогенетически возникшая программа его поведения настроена на наличие определенной врожденной культуры. Как доказал современный философ и ученый Ноам Хомски, человек имеет наследственную программу логического мышления и языка. Ребенок в младенчестве заучивает только звуки и комбинирует их уже по врожденной программе, отражающей его расовую, а следовательно и культурную принадлежность. Крупнейший немецкий философ Людвиг Клагес (1872-1956), основавший науку под названием «характерология», именно поэтому же метко определял: «Душа старше духа». Ибо дух человека всегда выражает исторические реалии эпохи, в которой тот живет, в то время как душа его является отражением вневременной расовой сути. Стиль любой культуры всегда зависит от ее расового наполнения.
Современный автор И. М. Быховская в книге «Homo somatikos: аксиология человеческого тела» (М., 2000) развивает концепцию увеличения самостоятельной значимости человеческого тела, его физического облика в современной культуре. «Соматическое сознание», минуя старые умозрительные шаблоны, само творит ценности. Новейшая эпоха постмодерна, по мнению автора, создает новую, доселе неслыханную доктрину «тело как ценность». «Человеческое тело не просто присутствует в мире наряду с другими объектами, а присоединяет себя к миру и в известном смысле творит его». «Телесность» в контексте отражения и истолкования действительности все чаще и чаще становится «универсальным мерилом».
По меткому выражению Мориса Мерло-Понти (1908-1961), другого представителя школы философской антропологии, «тело проектирует вокруг себя культурный мир».
Но, напичканное расовыми признаками на всех физических уровнях, человеческое тело неминуемо должно обострить и проблему расовых ценностей качественно по-новому. Абстрактные истины и бесплотная мораль, обретя телесность в контексте новой культуры, вобрали в себя «соматическое сознание», отправной точкой которого, или «первичной мыслью», и являются «расовые предрассудки» во всей своей первозданной красоте.
Искусно замыливая оптику первородного инстинкта пенными суррогатами либеральных ценностей, современная массовая культура, сама того не желая, вновь попала в тенета «расовой теории», о которых уже стали забывать. Разношерстная пегая толпа опять Карл Густав Карус подняла свои взоры к роскошному убранству расового архетипа, такому зримо телесному и одновременно трансцендентально вечному. В беспечной красотке с рекламного щита возле автострады угадывается вечный образ белокурой принцессы.
Таким образом, массовая культура, специально призванная глумиться и сокрушать расовые предрассудки, по странному стечению обстоятельств сбилась с такта в хороводе причинно-следственных связей и придала новый стимул к совершенствованию того, что, казалось бы, нужно было выбросить на свалку истории как досадный пережиток. Отчасти в силу этого курьеза возникла и такая современная наука, как «антропоэстетика».
Ведущий отечественный специалист в этой области Н. И. Халдеева в статье «Сравнительные антропоэстетаческие исследования в России» (Вестник антропологии, вып. 4, М., 1998) совершенно определенно пишет: «Нужно сказать, что человек не только воспринимает физиономический облик другого индивидуума, он соотносит его с Собственнымии групповыми антропологическими оценками. На этой основе индивидуум и его группа могут определить ареал распространения популяционных морфологических особенностей и вырабатывать собственную шкалу фенотипических суждений. Кстати, способность порождать ценностные воззрения, в том числе и в отношении внешности, является уникальным свойством человеческого сознания. Для антропоэстетического анализа наибольший интерес представляет форма оценки внешнего облика как этнического признака. Особенности внешности могут выступать носителями определенной информации и играть роль сигналов о расовой и этнической принадлежности человека. Приравнивание физиономических комбинаций к этнической характеристике в процессе восприятия внешности отражает антропологическую составляющую общего механизма идентификации. При формировании категорий идентичности эта составляющая является одной из самых древних и стабильных. Ее древность очевидна, так как человеческое лицо всегда было самым доступным и информативным, а на определенном этапе антропогенеза жизненно важным».
Это мнение признанного специалиста вновь совпадает с результатами этимологического анализа слова «предрассудок» в индоевропейских языках. Во времена бурного развития антропологии еще Дарвин указывал на различные «рожденные предпочтения при оценке типов внешности и, как следствие, на существование врожденных наследственных критериев, свойственных каждой расе. Каждый индивид носит в себе характерный набор «сигнальных» опознавательных признаков, по которым он оценивает окружающих в соответствии с базовым биологическим принципом «свой-чужой». Лицо с расовой точки зрения представляет собой концентрацию рецепторов сигнальной информации, служащей целям репродуктивного; отбора. Перспективный половой партнер, таким образом, оценивается в соответствии с врожденной типической структурой идеального партнера, характерного для данной этно-расовой группы. Н. И. Халдеева подчеркивает далее: «Большое значение имеет расовая принадлежность в процессе оценивания внешности. Механизм взаимного человеческого восприятия детерминирован биологически и социально, что обеспечивает его неизменное воспроизводство».
Все эти аспекты антропоэстетичеекой организации человеческой психики» вся ее архитектоника закодированы в нейронной организации мозга. Йзначальные эстетические каноны, свойственные дайной расе, без искажения воспроизводятся в ряде поколений, связывая напрямую каждое живущее поколение с архетипом. Нейроны мозга как бы выполняют функцию матрицы, числовые значения которой служат корректировке и поддержанию вектора эволюционного развития расы. Причем этот вектор физиономической «идеализации» строго направлен непосредственно в сторону усреднения, то есть типизации, или к единому расовому стандарту, с тем чтобы обеспечить максимальный репродуктивный успех индивидуума в рамках его популяции. Именно поэтому форма и цвет глаз, носа, волос, губ, овал лица являются наиболее значимыми при этно-расовой характеристике воспринимаемой внешности, ибо вокруг этого сочетания расовых признаков наиболее четко и концентрированно проступает генетическая информация об их носителе, что, в свою очередь, при его оценке дает возможность максимально использовать позитивный эффект расовых предрассудков. Информация, зрительно считываемая с лица оцениваемого объекта, сравнивается с информацией, заключенной в мозгу оценивающего субъекта, что приводит в действие механизм антропоэстетической оценки. Минимальные различия в их генетических матрицах и обеспечивают воспроизводство расы, отсекая вредные мутации, влекущие к «хаосу крови».
Обобщение теоретического плана в работе Халдеевой имеет следующий характер: «Изученный материал позволяет констатировать, что идеальный предпочитаемый морфотип человека по приоритетным градациям шести основных физиономических признаков формируется на базе реального типа и, будучи связанным с ним, является групповой характеристикой, подлежащей изучению по программе антропоэстетики методами физической антропологии».
Особую ценность работе Н. И. Халдеевой безусловно придают обобщения практических исследований, в процессе которых был выведен «суммарный показатель аутоидентификации (АI)». Чем консолидированное в расовом отношении группа, тем этот показатель выше. Кроме того, выяснилось, что в пределах выборок русских из рассматриваемых областей вектор мужского идеального типа имеет четко выраженный центростремительный характер. Это как нельзя наглядней подтверждает наличие у русского народа, как и у любой другой исторически значимой общности, «расового ядра», в котором все расовые признаки выражены самым отчетливым и неповторимым образом. Именно на расовое ядро народа приходится основная историческая нагрузка в процессе государственного строительства и созидания культурных ценностей. У представителей метисной периферии, не прошедших антропоэететический отбор на соответствие усредненному расовому идеалу, государственнический инстинкт ослаблен, и, как следствие, из числа бастардов формируются легионы всякого рода отступников и прозелитов.
«Именно расовое ядро народа представляет собой средоточие приложения исторических сил, а не внерасовый, разноплеменный шлак, в который, будто в песок, уходят все благие помыслы вождей и религиозных лидеров».
«Во всех русских группах вне связи с географической дифференциацией отмечаются относительно близкие варианты эстетически предпочитаемой красоты, выраженные в суммарных показателях антропологической аутоидентификации В целом, все русские группы образуют общий графический кластер, относительно однородный по параметрам антропоэстетики», - резюмирует Н. И. Халдеева.
Теперь следует подчеркнуть, что эти самые расовые антропоэстетические стандарты не набор бессвязных данных, произвольно трактуемых из поколения в поколение, но именно архетипическая матрица точных и постоянных величин, записанных в нейронной организации мозга каждого человека. И чем чище тип этого индивида, тем безошибочнее его эстетическое чутье и, как следствие, морально-этическая оценка.
«Подобное познается только подобным, поэтому о признаках породы вообще имеет право судить только породистая человеческая особь. У смешанных людей «пегие» же мысли, каноны и мораль».
Для объективной оценки стандартов расовой красоты в арсенале современной науки имеется такой точный и беспристрастный метод как «антропологическая фотография». Работа Надежды Николаевны Цветковой «Антропологическая фотография как источник для исследования по этнической фотографии» (М., 1976) служит тому наглядной и убедительной иллюстрацией. В ней она пишет: «В результате анализа фотометрических признаков выявлено, что почти все угловые размеры лица обладают хорошими группо-разграничительными свойствами. Они имеют межгрупповой размах более двух стандартов». Это означает, что величина объективных расовых различий в строении лица у представителей разных рас устойчиво превосходит ошибку при измерениях.
В целом расовая геометрия лица такова. «Европеоиды» по данным фотометрии имеют наиболее прямой профиль по верхнелицевому углу, причем последний (83-87°) у них всегда больше среднелицевого (81-85°), относительно небольшой угол выступания носа к горизонтали (57-63°), весьма сильное выступание носа к линии профиля (21-27°) прямую верхнюю губу (85-91°).
«Монголоиды» отличаются склонностью к мезогнатности по верхнелицевому углу и углу выступания верхней губы (72-82°). У них верхнелицевой угол (82-87°) всегда меньше среднелицевого (83-88°). Угол выступания носа к горизонтали - наибольший (65-72°) среди всех изученных групп.
«Негроиды» прогнатны (то есть имеют резко выступающую нижнюю челюсть) по верхне (73-77°) и средне-лицевому (76-80°) углам и углу выступания верхней губы.
Один из крупнейших отечественных антропологов В. В. Бунак в своей статье «Фотопортреты как материал для определения вариаций строения головы и лица» (Советская антропология N 2, 1959) делает такой вывод: «Известно, что опытный наблюдатель, изучая фотопортрет, может во многих случаях с достаточной точностью определить, к какой этнической группе относится изображенный индивидуум и каков его антропологический тип. Приведенные выше данные устанавливают, что по фотоснимкам можно получить не только суммарную и довольно общую характеристику антропологического типа, но и определить варианты отдельных кефалоскопических признаков, пользуясь для этого однообразной, специально разработанной методикой. Применяя такую методику, каждый исследователь имеет возможность определить вариант того или иного признака, независимо от знакомства с данным типом, не по общему впечатлению от фотопортрета, а на основании разграничительных критериев морфологического порядка».
Это вновь означает, что расовый и этнический тип - объективная реальность и поддаются точному измерению не только в общем, но и по отдельным частям портрета. Множество народных поговорок во всех частях света, обыгрывающих в ироничной форме те или иные черты лица, с обязательным их соотнесением с тем или иным расово-этническим типом; свидетельствуют о народной наблюдательности, то есть о естественности расовых предрассудков.
В современном сборнике работ «Проблемы эволюционной морфологии человека и его рас» (М., 1986) обсуждаемая тема выводится уже на качественно новый уровень. Так в статье «Перспективы применения ближней стереофотограмметрии в антропологии», созданной коллективом авторов: Л. П. Винников, И. Г. Индиченко, И. М. Золотарева, А. А. Зубов, Г. В. Лебединская - говорится о том, что качественная цветная фотография позволяет выявлять все нюансы пигментации глаз, кожи, волос, а также определять межзрачковые расстояния и выступание глазного яблока, в связи с чем авторы данной разбработки считают, что предлагаемый ими метод: «...открывает широкие перспективы чрезвычайно детального исследования поверхности лица человека и с большим успехом может быть использован и в этнической антропологии».
В подтверждение нашего тезиса о реальности врожденных признаков антропоэстетики сошлемся на монографию Юрия Кирилловича Чистова «Дифференциация рас человека по строению медианно-сагиттального контура черепа» (М., 1983). В ней он пишет: «Результаты полученных исследований позволяют с достаточной уверенностью говорить о наличии определенных различий в форме сагиттального контура черепной коробки человека у «северных» и «южных» популяций современного человека. Виутрирасовые величины этого показателя достоверно отличаются от межрасовых, т. е. представители контрастных расовых типов различаются между собой как по сумме градусных, так и линейных характеристик медианно-сагиттального контура. Одним из наиболее интересных выводов является констатация того факта, что современные краниологические серии столь же сильно различаются по величинам градусных и линейных характеристик Лобной части контура, как и по рисунку затылочного отдела».
Итак, совершенно очевидно, что расовые пропорции «черт лица» и всей головы в целом, воспринимаемые в процессе антропоэстетической оценки, есть реальный факт. И факт этот является не случайным достоянием отдельных личностей, но всего народа в целом, сквозь череду поколений сохраняющим в памяти свои идеалы красоты. «Извечное деление по принципу «свои-чужой» - базовая эстетическая категория, имеющая жесткую биологическую основу». Основоположник целой научной школы известный советский антрополог М. М. Герасимов в своей фундаментальной монографии «Восстановление лица по черепу» (М., 1955) уже во введении подчеркивал: «Известно, что у китайцев широкие, скуластые лица по сравнению с лицами европейцев, и многие авторы отмечают различную толщину мягких тканей в точке максимальной ширины скуловых дуг, а именно: у китайцев толщина в этой точке больше, у европейцев - меньше. Для европейцев, по Гису и Кольману, эта величина равна 6,63 мм, а для китайцев, по Биркнеру, - 10,09 мм, что вполне согласуется с нашими наблюдениями».
Все эти и множество иных данных заложены в основу науки, «габитоскопии» - части криминалистики. Сам термин, ее обозначающий, происходит от слов «габитус» (лат.: «наружность») и «скопео» (греч.: «рассматриваю»). В точном соответствии с логикой нашего предыдущего изложения нужно отметить, что в габитоскопии используются как «объективные» так и «субъективные» изображения внешности человека. В книге «Использование признаю» внешности в работе органов внутренних дел» (М., 1993) В. А. Снеткова указывается: «Этноантропологический тип находит отражение в анатомических внешних признаках, могущих быть определенными со всей точностью. В криминалистической практике тип лица чаще всего определяется в сравнении с представителями известных групп населения».
Поэтому и получается, что вся многовековая практика судебно-криминалистического освидетельствования личности строится в точном соответствии с «расовыми предрассудками», или «врожденными антропоэстетическими моделями». Закономерно будет поинтересоваться на сей счет точкой зрения либеральных антропологов, отрицающих сам факт существования «расы». Может быть, они желают отменить во всех частях света миллионы судебных решений, вынесенных на основе описаний личности обвиняемых, как юридически несостоятельные, якобы из-за отсутствия «этноантропологических типов», находящих «отражение в анатомических внешних признаках, могущих быть определенными со всей точностью»? Тогда в угоду «ученым либералам» нужно будет принести в жертву опознания и прочие виды экспертиз, основанные на групповых, то есть именно этнорасовых признаках. В. И. Козлов в статье «Этнорасовые предубеждения и этнологическая наука» (Расы и народы, вып. 23, 1993) справедливо отмечает поэтому: «При контактах с людьми, существенно отличающимися в антропологическом отношении, этническое самосознание обычно дополняется расовым и превращается в более четкое и устойчивое этнорасовое самосознание».
Одни из ведущих отечественных антропологов А. А. Зубов и Н. И. Халдеева в своей совместной статье из сборника с характерным названием «Расы и расизм. История и современность» (М., 1991) дают такое заключение: «Значит, «тип», т. е. характерная сумма генетических и морфо-физиологических признаков, маркирующая определенные группы внутри вида, - феномен вполне реальный, и стало быть, заслуживающий исследования». А современный генетик Дж. Яил заявляет, что в настоящее время любого индивидуума можно отнести к той. или иной хорошо исследованной большой этнической общности с точностью до 87%. Название книги А. Ф. Назаровой и С. М. Алтухова «Генетический портрет народов мира» (М., 1999) также говорит само за: себя, ибо в ней дается подробная характеристика частот генов во всех основных и даже многих реликтовых популяциях человечества. Наконец, знаменитая Таблица генетико-лингвистических расстояний между народами американского генетика Луиджи Кавалли-Сфорца окончательно иллюстрирует объективность различия между биотипами. Поэтому в свете заявленной темы будет небесполезно обратиться к забытому пласту антропологии, который также указывал на объективность возникновения расовых предрассудков.
Антропология рубежа XIX и XX веков, не владея методами генетического и биохимического контроля, тем не: менее, именно в части описательной статистики внешних морфологических различий, на которых собственно и базируется наше антропоэстетическое и морально-этическое отношение к иноплеменникам, стояла на очень высоком уровне. Сама постановка задачи в плане выявления и описания расово-биологнческих различий между представителями разных народов была много конкретней, чем в современной этнической антропологии. Научный поиск той эпохи был направлен не как сейчас - на стирание различий, но, напротив, на их усиление и обособление, что придавало максимальную конкретность и наглядность всем аспектам расовой диагностики. Еще раз подчеркнем, что описательные и статистические методы той эпохи нисколько не устарели, как не устарели до сих пор уравнения знаменитого немецкого математика Карла Фридриха Гаусса (1777-1855), с помощью которых современные генетики проводят свои вычисления.
Наша русская антропология докоммунистической эпохи также не является исключением в этом плане. Ее основателем, по общему мнению, принято считать Анатолия Петровича Богданова (1834-1896), которого официальная марксистская наука причисляла к стойким «борцам с расизмом». Правда, на чем она основывала свою классовую убежденность, не совсем понятно, так как Богданов совершенно в духе своего времени утверждал, что «череп, даже в своих племенных признаках, представляет нечто постоянное». Пусть это и не расизм, но и до пресловутого интернационализма здесь далеко.
Цель одного из главных сочинений А. П. Богданова «Антропологическая физиогномика» (М., 1878) как раз и состояла в том, чтобы поставить определение «характерных русских черт лица» на научную основу: «Для современного антрополога-натуралиста изучение человека вообще не есть ближайшая задача, это дело анатома, физиолога, психолога и философа. Для него важны те вариации, которые в своей форме и в своем строении представляют племена, и важны постольку, поскольку они дают возможность различать и группировать эти племена, находить в них различия и сходства для возможности естественной классификации их, для воссоздания того родословного древа, по которому они развивались друг от друга под влиянием различных причин. Для своих целей антропологическая физиогномика ставит иногда на значительное место при своих заключениях такие признаки, кои не важны для физиономиста вообще, как например, цвет волос м глаз». Таким образом, по мнению основателя русской антропологической школы, антрополог известного уровня квалификации прежде всего являлся расологом, все остальное - дело подмастерьев из числа «физиологов и философов». Расово-биологический приоритет здесь совершенно очевиден.
Определившись с ценностями, Богданов столь же категоричен и в вопросах выбора методологии: «Изучая мопса или пуделя, для зоолога интересны не случайные разновидности его, происшедшие от тех или других внешних условий, а то более постоянное сочетание, которое одно дает ему возможность составить себе представление о мопсе или пуделе, как представителях естественных групп или рас. Он знает, что в генетических теориях признаки не считаются, а взвешиваются по их значению; они классифицируются не по своей численности, но по своей ясности проявлений, по проявленности его. В данном случае зоологу в каждой особи важно то, что дает указание на влияние расы. То же мы имеем и в смешанных племенах человека; те же затруднения, те же цели встречаем мы при изучении их антропологических свойств».
Вторая часть монографии посвящена уже непосредственно антропологической физиогномике русского народа. А. П. Богданов утверждает: «Мы сплошь и рядом употребляем выражения: это чисто «русская красота», это «вылитый русак» типично «русское лицо». Может быть, при приложении к частным случаям этих выражений и встретятся разногласия между наблюдателями, но, подмечая ряд подобных определений русской физиогномии, можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении «русская физиогномия, русская красота». Это всего яснее выражается при отрицательных определениях, при встрече физногномий тех из родственных племен, кои исторически сложились иначе, например, инородцы, и при сравнении их с русскими. В таких случаях, «нет, это не русская физиогномия» звучит решительнее, говорится с большим убеждением и большей убежденностью. В каждом из нас, в сфере нашего «бессознательного» существует довольно определенное понятие о русском типе, о русской физиогномии».
Как видите, классик русской антропологии за сто лет до возникновения антропоэстетики обосновал все ее основные положения. Уместно будет также процитировать в этой связи слова русского этнографа и историка Н. И. Надежина, сказанные им еще в 1837 году: «Физиогномия Российского народа, в основании Славянская, запечатлена естественным оттенком северной природы. Волосы русые, отчего в старину производили самое имя «Руси».
Далее методами исторической этнографии Богданов доказывает, что колонизация Сибири в принципе не могла оказать на русский народ пагубного влияния. Расовое смешение прежде всего не могло иметь места по причине разницы пропорций этносов, приходивших в соприкосновение, а также из-за кардинального различия в их биологической стратегии выживания. С началом колонизации огромные массы расовооднородного русского населения хлынули на территории, заселенные разноплеменными аборигенами, не имевшими ни расовой, ни политической консолидации. Численный перевес, скоординированность действий, агрессивность отличали действия русских. Вырезая местное мужское население и овладевая туземными женщинами, русские колонизаторы, прокатываясь волна за волной по бескрайним просторам Евразии, неизбежно увеличивали процент нордической крови в местном населении от поколения к поколению, в точном соответствии с законами Менделя. Административная и судебная системы во вновь колонизируемых областях, сам характер хозяйственной деятельности, а также русская православная церковь многократно усиливали процесс русификации коренного населения, причем не столько в культурном отношении, сколько именно в антропологическом. Миф о «мирном освоении Сибири» - позднее изобретение коммунистической пропаганды. Перечень племен, исчезнувших с лица земли всего за двести-триста лет русской экспансии, весьма внушителен. Ни одно либерально-демократическое измышление не в силах изменить принципы борьбы за существование. Русские летописи, путевые заметки купцов, офицеров и просто «лихих людей» хранят свидетельства того, что отдельные племена добровольно отдавали молодых женщин плодородного возраста, едва завидев белых завоевателей.
Влияя на чужую кровь, русские колонизаторы при этом берегли свою, так как их женщины и дети оставались в метрополии. Несколько веков такого «интернационального миролюбия» смыли почти все остатки расово-этнической самобытности автохтонов с гигантских территорий. «Государев человек», купец и православный священник великолепно дополняли друг друга, координируя действия военных отрядов, экономических факторий и церкви, что позволяло держать под контролем местное разрозненное население. Кстати, завоз водки и табака к монголоидным племенам Сибири, для коих они губительны, был санкционирован именно православным духовенством. Использование коренного населения, более слабого телосложения, на рудниках, копях и во время навигации на северных реках также подрывало его расовые силы в противостоянии с русскими. Кроме того, «исконная русская мораль» была цементирующим фактором, делавшим стремительную ассимиляцию населения Сибири необратимой. А. П. Богданов продолжает: «Может быть, многие и женились на туземках и делались оседлыми, но большинство первобытных колонизаторов было не таково. Это был народ торговый, воинственный, промышленный, заботившийся зашибить копейку и затем устроить себя по своему, сообразно созданному себе собственному идеалу благополучия. А этот идеал у русского человека вовсе не таков, чтобы легко скрутить свою жизнь с какою-либо «поганью», как и теперь еще сплошь и рядом честит русский человек иноверца. Он будет с ним вести дела, будет с ним ласков и дружелюбен, войдет с ним в приязнь во всем, кроме того, чтобы породниться, чтобы ввести в свою семью инородческий элемент. На это простые русские люди и теперь еще крепки, и когда дело коснется до семьи, до укоренения своего дома, тут у него является своего рода аристократизм. Часто поселяне различных племен живут по соседству, но браки между ними редки, хотя романы часты, но романы односторонние: русских ловеласов с инородческими камеями, но не наоборот».
Наконец, Богданов делает и следующие весьма важные выводы относительно полоролевого участия в расовом смешении: «Женщина, сравнительно более высокого развития, более высокой расы, редко снизойдет до представителя расы, считаемой ею за ниже стоящую. Помеси европеек с неграми крайне редки и принадлежат к случайным, можно сказать эксцентричным явлениям, но негритянки и мулатки падки до европейцев».
«Чем «ниже» раса, тем распущеннее ее женщины» что объясняется и современными данными эволюционной теории пола и биологии поведения. Они просто воруют таким образом у «высших» рас не достающие гены. «Чувство собственного достоинства в сфере секса - это индикатор биологической самоценности».
Русский этнограф граф А. С. Уваров в этой связи, основываясь на личных впечатлениях, например, крайне негативно высказывался, о слабости нравов мордовских женщин.
Выдающаяся заслуга А. П. Богданова состоит также и в том, что он первым еще в 1867 году составил «Антропологический альбом русского народа», демонстрировавшийся на международных выставках. Таким образом, за много лет до современного бурного развития антропоэстетики он обосновал не только ее теоретическую часть, но и приступил к систематизации практического материала, именно с целью выявления «типично русских лиц», в связи с чем антропологическому анализу им впервые были подвергнуты и русские народные песни. Русский расовый идеал красоты, как и следовало ожидать, не заставил себя долго искать. «Молодая, разумная, без белил лицо белое, без румян щеки алые», - поется о русской девушке, или: «Тонка, высока, тонешенька, белешенька». О русском молодце: «Приглядывали красны девицы за румяным молодцем. Русы кудри по плечам лежат, брови черные, что у соболя».
Подобным художественным описаниям из русского фольклора нет числа, что лишний раз говорит в пользу объективности выводимого современной антропоэстетикой суммарного индекса аутоидентификации (АI) для русского народа, как и для любого другого.
Основоположник «евгеники» англичанин Фрэнсис Гальтон (1822-1911) также предложил создавать обобщенные карты красоты по географическим местностям. Его инициатива относится к 1883 году, а немецкая антропоэстетическая программа вообще возникла только в 1926 году.
Еще раз подчеркнем, что ясность постановки задачи и доступность изложения в русской дореволюционной антропологии сочеталась с высокой гражданской позицией, чего мы почти не наблюдаем в современной науке, стыдливо прикрывающейся жупелом усредненного гуманизма, конвертируемого произвольно. Дореволюционная русская антропология, так же как и иные национальные школы, была глубоко патриотичной и расово-ориентированной, при этом нисколько не теряя научной объективности.
С. И. Луценко в своей статье «Общественная среда, как фактор развития и красоты человеческого лица» (Русский антропологический журнал, № 1, 1900) писал: «Красота живого лица зависит в значительной степени от той или иной формы костного черепа. Череп, как и живое лицо, может представлять высшие и низшие формы, красивые и некрасивые. Именно такова связь морфологии человеческого лица со степенью сплоченности и цивилизации человеческих сообществ. И его красота не создана нашей фантазией, она имеет реальное объективное значение, потому что связана своим происхождением с наиболее высокими функциями человечества - нравственным и общественным».
Таким образом, следуя логике отечественной антропологии, признав эстетическую и ценностную самодостаточность этнического стандарта красоты, мы слой за слоем разбираем морфологию строения лицевых мягких тканей, а затем приступаем к изучению собственно «племенных особенностей черепа». Поэтому «нравственные и общественные» оценки красоты человеческого лица постепенно приобретают строгое антропологическое измерение. «Расово-этничеекая мораль также имеет свою физическую базу».
Продолжая цепь наших рассуждений, считаем закономерным обратиться к подлинному шедевру русской «краниологии» - работе Дмитрия Николаевича Анучина (1843-1923) «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам» (М., 1880). Основываясь на богатейшем международном опыте, а также на результатах собственных практических наблюдений, он создал интереснейшее научное исследование с глубочайшими, далеко идущими обобщениями, правоту которых мы без особого труда можем наблюдать и по сей день.
Изложение своей концепции Анучин начинает с описания «птериона» - небольшого участка поверхности черепа, на каждой из боковых сторон которого, в височной ямке, сходятся четыре кости: лобная, теменная, височная и основная.
Следует оговориться, что мы не будем утомлять читателя деталями краниологического анализа, всецело доверяя авторитету маститого ученого, и поэтому считаем вполне уместным ограничиться выводами, которые имеют место в этом обстоятельном сочинении. Прежде всего начать нужно с того, что участок птериона являете» хорошим расово-диагностическим маркером, ибо различные виды его аномалий в частотном отношении у больших человеческих рас имеют разницу в 4-8 раз. Столь существенные различия наглядно показывают, что представители основных человеческих рас крайне несходны по темпам динамического роста соответствующих участков черепа, а также и самого головного мозга, ибо еще классической школой антропологии Иоганна Фридриха Блюменбаха (1752-1840) было выявлено, что именно развитие мозга задает формирование черепа человека, но никак не наоборот. Ее представитель Сэмюэль Томас Зоммеринг (1755-1830) писал: «Надо полагать, что природа формирует черепные кости так, чтобы они могли приспособиться к мозгу, но не наоборот».
В частности, лобная и височная кости покрывают именно те участки мозга, что ответственны за высшие психические функции и абстрактное мышление. Но именно у представителей так называемых «низших» рас их развитие завершается быстрее, чем у представителей «высших» рас, что находит соответствующее отражение в преждевременном срастании этих костей. Частота тех или иных аномалий птериона по Анучину стоит в прямом соответствии с интеллигентностью расы как таковой. Ускоренная программа развития этих фрагментов мозга у «низших» рас позволяет соответствующим костям черепа быстрее зарасти, что и находит отражение в их культурной отсталости.
Из всех остальных аномалий черепа, каковых насчитывается значительное количество, наиболее показательным в плане социальной антропологии является «метопизм».
Под метопизмом понимают шов, образовавшийся на месте соединения двух половин лобной кости. Этот лобный шов зарастает у большинства новорожденных младенцев, но у некоторых индивидов сохраняется на всю жизнь. Вот именно эта-то аномалия черепа и является отменным расово-диагностическим и, как следствие, социокультурным маркером. Именно лобные доли мозга, отвечающие за высшие проявления человеческой психики и интеллекта, у некоторых индивидуумов в процессе начальной фазы роста оказывают повышенное давление на соответствующие отделы лобной кости, раздвигая их, что, в свою очередь, и вызывает появление лобного шва под названием метопизм. Многие современные либерально настроенные антропологи тщетно пытаются затемнить дело в этом достаточно ясном вопросе, ибо развитие фрагментов черепа протекает в соответствии с постулатами такой точной инженерной дисциплины, как «сопротивление материалов». И никакие гуманистические спекуляции не смогут стереть физическую границу, разделяющую «низшие» и «высшие» расы. По наблюдениям Анучина, метопические, то есть с лобным швом, черепа имеют вместимость на 3-5% большую по сравнению с обыкновенными. Далее, анализируя частоту возникновения метопизма у разных рас и народов, он делает такой вывод: «Таблица результатов наблюдений показывает, что у европейцев лобный шов встречается много чаще, чем у других рас. В то время, как для различных серий европейских черепов процент метопизма найден варьирующим от 16 до 5, серии черепов низших рас в большинстве случаев только 3,5-0,6 процентов. Известное соотношение существует, по-видимому, между наклонностью к метопизму и интеллигентностью расы. Мы видим, например, что во многих расах более интеллигентные племена представляют больший процент метопических швов. У высших представителей монгольской и белой рас он выражается цифрой, по крайней мере в 8-9 раз большею, чем у австралийцев и негров».
Эти заявления одного из мэтров русской антропологии никак не могут быть отнесены к категории расистских, ибо Институт Антропологии Академии Наук Российской Федерации сегодня гордо носит имя Дмитрия Николаевича Анучина, а вышецитированная работа является его докторской диссертацией.
Таким образом в антропологии и возникла целая самостоятельная «теория эксцентрического давления мозга» призванная объяснить сам факт неравномерности распределения метопического шва у различных рас, на основе их неодинаковой природной интеллектуальной одаренности. Сторонники этой концепции считают, что причиной метопизма является усиленное давление мозговых полушарий на стенки черепа, в особенности на лобную кость, что и создает в результате препятствие для своевременного зарастания лобного шва. На основе статистических данных было сделано обобщение, согласно которому индивиды с сохранившимся лобным швом обладают большей массой мозга, причем это увеличение является не только абсолютным, но и относительным, то есть не связанным с увеличением размеров тела. Сохранение лобного шва в свою очередь сказывалось в более высоком уровне психических и интеллектуальных способностей данных индивидов. Наиболее яркими представителями теории эксцентрического давления мозга были такие крупные антропологии, как Жорж Папийо (1863-?), Георг Бушан (1863-1942), Марциано Лимсон (1893-?).
Статья В. В. Масловского, помещенная в «Русском антропологическом журнале» за 1926 год, том 15, вып. 1-2, носит название «О метопизме». В ней автор также ясно пишет: «Таким образом на явление сохранения лобного шва у человека можно смотреть как на явление, связанное с совершенствованием его организации. Такая расчлененность черепа на парные лобные кости является благоприятным фактором как для содержимого черепа, так и для него самого. Рост последнего в различных направлениях происходит благодаря наличию швов».
Давление растущего мозга, Генетическая программа которого рассчитана на длительный рост, приводит к образованию лобного шва, называемого метопизмом. Мозг, развивающийся по укороченной программе, дает гораздо меньшую вероятность его возникновения. Именно по этому признаку расы и можно подразделить на «высшие» и «низшие».
Среди зарубежных ученых, занимавшихся аномалиями черепа в контексте данной расовой систематики, нужно выделить, помимо упоминавшихся, еще такие имена: Венцель Леопольд Грубер (1814-1890), Иоганн Ранке (1836-1916), Герман Велькер (1822-1897), Йозеф Гиртль (1811-1894), Паоло Мантегацца (1831-1910).
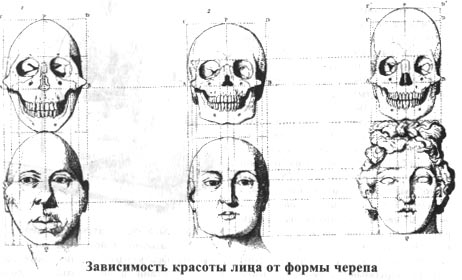 Известный
шведский антрополог и анатом, профессор Стокгольмского университета Вильгельм
Лехе (1850-1927) в своей книге «Человек, его происхождение и эволюционное
развитие» (М., 1913), суммируя многочисленные исследования в разных странах в
области аномалий швов черепа, давал такое ясное и обстоятельное резюме: «Очень
сильную опору того мнения, что культурный уровень стоит в связи с развитием
головного мозга, а последний - с развитием мозговой капсулы, является следующий
факт. Обычно парно закладывающиеся лобные кости срастаются у человека в одну
кость на 1-2 году жизни. Реже это срастание останавливается на такой стадии, что
лобные кости остаются в течение всей жизни разделенными лобным швом. Точными
исследованиями доказано, что это срастание задерживается давлением изнутри,
благодаря росту лобных долей головного мозга. Именно благодаря сильному росту
этой части головного мозга обе лобные кости раздвигаются между собой, и
продолжающееся окостенение не может восполнить промежутка между ними. Далее
можно считать доказанным, что передняя часть мозговой коробки обыкновенно бывает
больше у Черепов с сохраняющимся лобным швом, нежели у таких, у которых лобные
кости срастаются. Что сохранение лобного шва действительно обыкновенно является
«критерием умственного превосходства» должно следовать из того, что черепа с
этой особенностью чаще встречаются у цивилизованных народов, нежели у диких. В
связи с этим я хочу упомянуть, что до сих пор не было описано ни одного черепа
человекообразной обезьяны с сохраняющимся лобным швом».
Известный
шведский антрополог и анатом, профессор Стокгольмского университета Вильгельм
Лехе (1850-1927) в своей книге «Человек, его происхождение и эволюционное
развитие» (М., 1913), суммируя многочисленные исследования в разных странах в
области аномалий швов черепа, давал такое ясное и обстоятельное резюме: «Очень
сильную опору того мнения, что культурный уровень стоит в связи с развитием
головного мозга, а последний - с развитием мозговой капсулы, является следующий
факт. Обычно парно закладывающиеся лобные кости срастаются у человека в одну
кость на 1-2 году жизни. Реже это срастание останавливается на такой стадии, что
лобные кости остаются в течение всей жизни разделенными лобным швом. Точными
исследованиями доказано, что это срастание задерживается давлением изнутри,
благодаря росту лобных долей головного мозга. Именно благодаря сильному росту
этой части головного мозга обе лобные кости раздвигаются между собой, и
продолжающееся окостенение не может восполнить промежутка между ними. Далее
можно считать доказанным, что передняя часть мозговой коробки обыкновенно бывает
больше у Черепов с сохраняющимся лобным швом, нежели у таких, у которых лобные
кости срастаются. Что сохранение лобного шва действительно обыкновенно является
«критерием умственного превосходства» должно следовать из того, что черепа с
этой особенностью чаще встречаются у цивилизованных народов, нежели у диких. В
связи с этим я хочу упомянуть, что до сих пор не было описано ни одного черепа
человекообразной обезьяны с сохраняющимся лобным швом».
Рудольф Вирхов (1821-1902) в конце XIX века проделал огромную работу по территориальному распределению обилия краниологической информации, собранной Немецким антропологическим обществом, в результате чего была составлена знаменитая «Карта распространения метопизма в Европе». Одной из самых густонасыщенных этим признаком зон оказалась Бавария.
Нет надобности впадать здесь в узконемецкий шовинизм, тем более в его русском исполнении. Легко догадаться, что традиционно высокий уровень культуры, благосостояния и национального самосознания в этой немецкой области сопряжен именно с высокой частотой встречаемости метопического шва, который для всех баварцев составляет в среднем 12%. Знаменитый советский антрополог Г. Ф. Дебец, исследуя захоронения Х-ХП веков под Псковом и Новгородом, установил частоту встречаемости в них метопизма на уровне 14%. Вот вам и разгадка Возникновения первого в Европе парламента - Новгородского Вече. Вот вам и традиционно высокий уровень грамотности и патриотизма псковичей (из которых, кстати, до сих пор набирают элитные части парашютно-десантных войск). Для всех жителей городов, входивших в северный европейский торговый и политический союз - Ганзу, согласно результатам раскопок, характерны высокие показатели этого расово-диагностического признака. Сегодня в Средней и Северной Европе существуют зоны, в которых его частота иногда доходит до 16,5%, и для представителей нордической расы эта величина Всегда заметно выше, чем у других европеоидов.
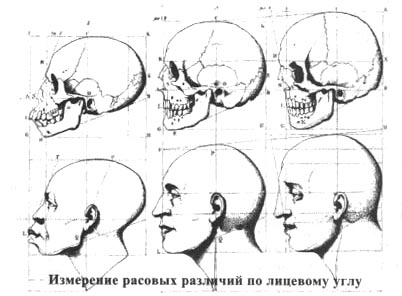 Известный
советский антрополог М. И. Урысон в своей статье «Метопизм у человека»
(Советская антропология, № 1, 1959), избегая резких выводов, тем не менее,
приводит поистине уникальные факты, хорошо подтверждающие базовые постулаты
классической расологии. В результате раскопок было установлено, что частота
встречаемости метопического шва в краниологических сериях составляет: 24% для
индейцев Америки и 26% для этрусков. Вот вам и элементарное объяснение причин
возникновения высоких культур ацтеков, майя в Новом Свете и ядра римской
культуры в Европе, заложенной небольшим по численности, но уникальным по своей
одаренности племенем этрусков.
Известный
советский антрополог М. И. Урысон в своей статье «Метопизм у человека»
(Советская антропология, № 1, 1959), избегая резких выводов, тем не менее,
приводит поистине уникальные факты, хорошо подтверждающие базовые постулаты
классической расологии. В результате раскопок было установлено, что частота
встречаемости метопического шва в краниологических сериях составляет: 24% для
индейцев Америки и 26% для этрусков. Вот вам и элементарное объяснение причин
возникновения высоких культур ацтеков, майя в Новом Свете и ядра римской
культуры в Европе, заложенной небольшим по численности, но уникальным по своей
одаренности племенем этрусков.
Как видите, в ходе наших обобщений мы вовсе не склонны предаваться узкоевропейскому чванству, подтасовывая факты. Напротив, на основе имеющихся данных можем констатировать, что, по крайне мере во времена своего культурного расцвета, коренное население Америки также являло собой яркий и неоспоримый образчик принадлежности к «высшей» расе.
Таким образом, со всей очевидностью можно заключить, что любые данные социологии есть всего лишь следствие биологии, но никак не наоборот. Ни среда, ни воспитание никогда не сделают из «неметопического» народа «методический». Существуют расы, которые с исторической и эволюционной точек зрения являются «лауреатами методического шва», а есть приближающиеся к человекообразным обезьянам по частоте возникновения этого признака.
Наконец, даже такое светило антропологии, как В. В. Бунак в статье «О гребнях на черепе приматов» (Русский антропологический журнал, том 12: книга 3-4, 1922) писал: «Аномальный лобный шов у человека наблюдается чаще у культурных рас, что связывается с увеличением головного мозга и возрастающим его давлением на лобную кость».
Вообще справедливости ради нужно отметить, что в первые годы своего существования советская наука не стеснялась увлекаться классическими антропосоциальными теориями. Соответствующую постановку вопроса можно обнаружить, например, в работе С. Г. Шмерлинга «К вопросу о национальных и социальных различиях в размерах головы» (Русский антропологический журнал, том 18, книга 3-4, 1929).
Известный немецкий антрополог Карл Фогт (1817-1895) в своей книге «Человек и его место в природе» (С.Петербург, 1866), обобщая данные, современной ему науки, утверждал: «Негрский череп относительно срастания своих швов следует другому закону, чем череп белого; что его передние швы, лобный и венечный, как у обезьяны, срастаются очень рано, гораздо раньше задних, тогда как у белого человека порядок срастания швов совершенно обратный. Если же так, то нет особенной смелости в предположении, что в мозге негра, может быть, существует тот же обезьяний ход развития, который доказан в его черепе».
Более чем через столетие известный советский генетик Николай Петрович Дубинин в книге «Что такое человек?» (М., 1983) в политически корректной форме изложил сходный комплекс идей: «Мозг человека обладает генетически детерминированными свойствами. Для нормального развития мозга нужна нормальная генетическая программа. Доказано, что 5/6 мозга формируется у человека после рождения. Эта непрерывная биологическая преемственность на протяжении истории человечества обеспечивается наличием в генетической программе каждого индивида типологических черт. Человек обладает определенными биологическими свойствами, специфика которых проявляется на молекулярном, клеточном, организменном и популяционном уровнях».
Поэтому и получается, что с точки зрения логики развития науки о человеке ученые конца XIX века, еще не имея методов и результатов исследований современной молекулярной биологии и нейробиологии, в аномалиях черепа видели закономерные расово-диагностические маркеры, характеризующие взаимосвязь культуры расы и специфики строения мозга ее представителей. Первыми антропологами, попытавшимися поставить культурные способности в соответствие с объемом черепа, были Рудольф Вирхов, Поль Брока (1824-1880), Адольф Бастиан. На основе этих идей и возникла на рубеже XIX и XX веков школа классической «антропосоциологии» известных ученых Жоржа Ваше де Лапужа (1855-1936), Отго Аммона (1842-1916) и Людвига Вольтмана (1871-1907), действовавших с большим размахом и смелостью.
В блестящей книге «Политическая антропология» (М., 2000) Вольтмана было указано: «Судьба человеческого рода тесно связана с кубическими дюймами мозговой массы, и история человечества внесена в эту массу, как в большую книгу, полную иероглифических знаков».
Карл Фогт также считал: «Найдено, что для развития умственных способностей человеку необходим известный минимальный определенный вес мозга, за которым начинается идиотизм, ограниченность, слабоумие».
Основоположник русской антропологии Анатолий Петрович Богданов еще в 1865 году отмечал: «Известно, например, что у негров окостенение и спайка швов черепа происходит гораздо раньше, чем у белых; что у последних спайка всего чаще начинается швами задней доли черепа, тогда как у негров обыкновенно она проявляется прежде всего на передних швах и потом уже переходит на задние. Важность этих признаков, имеющих следствием более раннюю или позднюю остановку роста той или другой части мозга, очевидна для каждого, в особенности если принять в соображение, что человек составляет единственный пример в ряду существ, у которых мозг продолжает расти и после юности. Если время и порядок последовательности окостенения швов черепа изменяются по расам, то становится весьма вероятным, что изучение окостенения реберных или грудных хрящей, хрящей гортани, позвоночника и даже таза, даст «этнические различия».
Профессор Иван Алексеевич Сикорский (1842-1919) в своей монографии «Всеобщая психология с физиогномикой» (Киев, 1904) аналогично утверждал: «Черная раса принадлежит к наименее одаренным на земном шаре. В строении тела ее представителей заметно более точек соприкосновения с классом обезьян, чем в других расах. Вместимость черепа и вес мозга черных меньше, чем в других расах, и соответственно тому духовные способности развиты меньше. Негры никогда не составляли большого государства и не играли руководящей или выдающейся роли в истории, хотя были в отдаленные времена гораздо больше распространены численно и территориально, чем впоследствии. Наиболее слабую сторону черного индивидуума и черной расы составляет ум: на портретах всегда можно заметить слабое сокращение верхней орбитальной мышцы, и даже эта мышца у негров анатомически развита значительно слабее, чем у белых, между тем она является истинным отличием человека от животных, составляя специальную человеческую мышцу».
Другой русский антрополог профессор А. И. Крюков уже в советское время, в 1926 году издал работу с характерным названием «О дегенерации черепа». В ней он указывал: «Занявшись исследованием черепа, мне пришлось наблюдать часто встречающиеся изменения. Как признаки дегенерации, преимущественно в строении черепа и менее - в других органах». Видя закономерную связь между строением черепа и мозгом индивида, автор данной работы уместно цитирует классика русской психиатрии С. С. Корсакова (1854-1900), который в своей книге «Курс психиатрии» (М., 1901) высказывал следующую мысль: «Хотя анатомические изменения черепа нельзя считать непосредственною причиною душевных заболеваний, но они в большинстве случаев указывают на направленность физиологических процессов в черепе, обуславливающую молекулярные изменения в нервных клетках коры».
Логический вывод в работе Крюкова, поэтому прост и закономерен: «Все дегенеративные изменения, по-видимому, связаны с преждевременными сращениями черепных швов». Характерно, что автор не стесняется в своей работе переносить выводы, сделанные им для отдельных индивидов, на более обширные и сложные по составу человеческие группы. Статья В. В. Бунака «Антропологическое изучение преступника, его современное положение и задачи» (М., 1926) в принципе опирается на те же факты и приводит нас к аналогичным выводам, соответствующим взглядам Чезаре Ломброзо (1835-1909) - основателя школы «криминальной антропологии»: наследственная дегенерация и предрасположенность к совершению преступлений взаимосвязаны. Однако теперь, выстраивая в ряд всю совокупность умозаключений цитированных нами антропологов, психиатров и криминологов, мы придем к закономерному обобщению: в «человеческом сообществе, состоящем из различных расовых групп, наибольший процент преступлений приходится на те из них, у которых в силу их наследственной обусловленности наблюдается больший процент преждевременного сращения всех черепных швов».
Современное так называемое мультикультурное общество, пропагандирующее межрасовый интернационал (хаос крови) - тому идеальный пример, ибо в странах Западной Европы и США максимальный процент преступности приходится на представителей негроидной расы и иных темнопигментированных расовых групп. В цивилизованном мире цвет преступности уже давным давно не белый, и ни один филантроп не посмеет оспорить этот факт, официально документируемый ежедневными сводками Федерального бюро расследований США.
В данном вопросе автор этих строк никак не претендует на первенство. Ибо эти положения криминальной антропологии были выведены крупным отечественным ученым профессором Виктором Николаевичем Звягиным еще 1970-е годы; а также сегодня подтверждены криминологом Сергеем Алексеевичем Никитиным коллекцией черепов антисоциальных элементов, у которых в основной своей массе была обнаружена наследственная ромбовидная деформация черепа, и очень низкая для европеоидной расы (всего 1%) частота встречаемости метопического шва. Шведский антрополог Вильгельм Лехе в своей книге «Человек, его происхождение и эволюционное развитие» (М., 1913) писал в этой связи: «Сравнительное исследование человеческого черепа установило, что все его составные части происходят непосредственно от того, что имеется у низших позвоночных».
Существуют и этнографические подтверждения. Два английских путешественника в начале XIX века оставили характерное свидетельство: «Готтентоты и особенно бушмены нравственно и физически только немного отличаются от орангутанга. Африка южнее 10 градуса обитаема только людьми, ум которых темен, как их кожа, и строение их черепа делает утопической мечтой всякую надежду на их будущее улучшение».
Крупнейший русский расолог В. А. Мошков в своей монографии «Новая теория происхождения человека и его вырождения» (Варшава, 1907) писал: «По своим душевным способностям негритенок не уступает белому ребенку, он так же Способен к учению и так же понятлив, как белый. Но как только наступает роковой период возмужалости, то вместе со сращением черепных швов и выступанием вперед челюстей у них наблюдается тот же процесс, как у обезьян: индивидуум становится неспособен к развитию. Критический период, когда мозг начинает склоняться к увяданию, наступает гораздо раньше у негра, чем у белого, именно за это говорит более ранее сростание швов черепа у негра». В связи с чрезвычайно важностью специфики заростания швов черепа у представителей различных рас, а также наглядности и неоспоримости этого расово-диагностического признака в исследовании социокультурных процессов, профессор В. Н. Звягин предложил использовать удачное название - «сутурология» - наука об исследовании рисунков черепных швов.
В общественной жизни мы наблюдаем подтверждение следующего незыблемого правила: «чем «ниже» с эволюционной точки зрения социальная или расовая группа, тем быстрее происходит сращение швов на черепе у ее представителей и тем быстрее прекращается у них запрограммированное развитие мозга, что является одной из основных причин их антисоциального поведения при попадании в лоно распространения другой, более «высокой» расы».
Это правило подтверждается статистическими исследованиями криминальной антропологии, а также полностью совпадает с выводами неврологии, что и засвидетельствовано в утверждениях генетика Н. П. Дубинина.
Пронаблюдав, как проявляются антропологические данные в социально-криминологических закономерностях, мы без труда вновь обнаружим, как различия в физическом строении рас сказываются и на судьбе государств. Книга А. М. Фортунатова «Материалы к вопросу о последовательности и порядке Закрытия черепных швов у инородцев России» (С.-Петербург, 1889) служит тому прекрасным свидетельством. В ней автор пишет: «Вес мозга у высших рас увеличивается до 40 раз, затем остается почти без изменений до 50 лет и потом начинает уменьшаться. Чем сильнее функционирует мозг, тем позже наступает врастание швов на черепе. У различных рас эти черепные швы зарастают неодновременно. Эту неодновременность следует ставить в связь со способностью к развитию мозга и сложностью швов. В низших расах, наименее способных к совершенствованию, швы менее сложны и очень рано сглаживаются; иногда они исчезают более или менее вполне от 30 до 40 лет. У рас более совершенных они сохраняются далее и сглаживаются гораздо позднее».
По наблюдениям автора, у великорусов зарастание швов черепа начинается в 40 лет и более. Помимо времени зарастания швов важнейшим показателем общего развития расы является и порядок закрытия черепных швов, что и явствует из самого заглавия книги Фортунатова, в которой он писал: «У белого племени швы начинают зарастать Дмитрий Николаевич Анучин с заднего отдела, тогда как у негра они закрываются сначала в передней части, то же самое наблюдается у идиотов, принадлежащих к белой расе. На черепах инородцев России закрытие швов идет и в том, и в другом направлении; и спереди назад (в 2/3 случаев) и сзади наперед (в 1/3 случаев)».
На основе всего вышеизложенного совсем не трудно сделать вывод, почему «многонациональная», как нам об этом ежедневно вещают демократические обществоведы, Россия все же основана именно русскими, а не каким-либо другим племенем.
«Российская империя, также как до этого Великая Русь были основаны великорусским племенем, у которого в силу его наследственно обусловленных расовых признаков сам процесс и очередность зарастания черепных швов происходит по модели, свойственной «высшей» расе, в то время как у «инородцев России» преобладает модель, позволяющая отнести их преимущественно к «низшим» расам»
Этот антропологический принцип мы без труда можем обнаружить в истории любой великой империи и любой великой цивилизации. «Высшие» расы создают - «низшие» уничтожают».
Судьба народов, принадлежащих к этим базовым расовым типам, обусловлена самим наследственным принципом развития их мозга и не поддается никакому культурно-просветительскому вмешательству извне. Мировая история является по сути химической ретортой, осуществляющей возгонку «высших» элементов и осаждение «низших».
Доказательства в пользу корреляции между спецификой срастания черепных швов у представителей разных рас и их способностью к культуротворчеству обоснована изысканиями таких антропологов, как: Адольф Фик (1829-1901), Иоганн Кристиан Люсье (1814-1885), Йозеф Энгель (1816-1899), Карл Риттер фон Эденберг Лангер (1819-1887), Ганс Гудден (1866-?).
Со времен распада Советского Союза было выдвинуто множество самых разнообразных версий этого эпохального исторического события. Мы вовсе не намерены ни с кем полемизировать.
С точки зрения вышеизложенных фактов все выглядит достаточно тривиально. Государственно-политическое образование СССР - преемник Российской Империи - распалось именно тогда, когда численность государствообразующего народа - русских - упала до половины общей численности народонаселения. В ближайшее время подобная участь ожидает США, где белое государствообразующее большинство скоро также окажется в меньшинстве.
«Принадлежность к государствообразующей нации - понятие не социокультурное и не мистическое, а расово-биологическое, измеряемое по множеству параметров, но более всего отражаемое в весе, сложности устройства и эволюционной ценности мозга ее представителей».
Во всех этих умозаключениях не содержится абсолютно ничего «расистского». Крупнейший советский антрополог В. П. Алексеев в монографии «Историческая антропология и этногенез» (М., 1989) писал: «Никакой тщательный и глубокий анализ этнических взаимоотношений невозможен без учета расовой ситуации, никакое исследовавние по этногенезу и этнической истории не может быть по-настоящему комплексным и всеобъемлющим без привлечения антропологических данных, то есть в конечном счете данных о биологии человека. Изучаемые антропологами морфологические и физиологические особенности генетически обусловлены, поэтому биологические свойства популяций тесно переплетаются со многими аспектами их жизни, что существенно обогащает картину человеческой истории». (Окончание в следует….)
В.Б Авдеев. Журнал «АТЕНЕЙ», № 2 , 2001 г.
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
и общий кризис традиционализма
Владимир Авдеев
Все разговоры о Традиции и традиционном, которые с недавних пор сделались в наших философских салонах очень модными, прочно ассоциируются с личностью французского эзотерика Рене Генона.
Само слово Традиция и это имя превратились уже почти в мистическое заклинание в кругах философов, претендующих на роль жрецов и духовидцев в современной жизни России.
Свой путь последняя надёжа православия начал в 1906 году, поступив в Высшую свободную школу герметических наук, которой руководил Папюс, и премногого достиг в ней. Параллельно Генон получил посвящение от ряда масонских организаций, не признававшихся "официальным" масонством, таких как испанская масонская ложа "Уманидад" и Первоначальный и оригинальный обряд последователей Сведен-борга, великий магистр которого Теодор Рейс принимал активное участие в создании Общества Туле, которое в свою очередь инициировало создание национал-социалистической партии в Германии.
Уже в 1908 году Генон в качестве секретаря бюро участвовал в Спиритуалистском масонском конгрессе (это в двадцать два года!) Генон уходит от Папюса и примыкает к Гностической церкви. Однако уже в 1909 году мартинисты и масоны исключили Генона из своих рядов, ибо его патологическое непостоянство утомило их. Генон организовывает "Орден обновлённого храма" с семью ступенями посвящения, как и в масонстве очищенного шотландского обряда.
После этого наконец Генон примкнул к официальным масонам, к Великой ложе Франции (древний и принятый шотландский обряд), секцию которой, под названием "Фивы" он регулярно посещал до первой мировой войны. Существуют источники, которые говорят, что Генон одновременно входил в Высший генеральный совет Объединённых обрядов древнего и первоначального масонства и Великого Востока Франции.
После войны Генон больше не участвовал в работе ложи, но был по-прежнему убеждён, что масонство- последний пережиток западной тайной Традиции и только оно вместе с католической церковью может спасти нашу цивилизацию.
Позже Генон разочаровался и в масонстве и в католичестве и начал печататься в антимасонском журнале, однако при этом он никогда не был исключён из официального масонства. Набегавшись по ложам, Генон в 1912 году обрезался и перешел в ислам. В одном он был устойчив всю жизнь, ненавидя культуру и цивилизацию страны и континента где родился, что чаще всего наблюдается у генетических космополитов и искателей двойного гражданства.
Генон не просто масон, это масон-стахановец, ударник шотландского обряда. Редкая домашняя хозяйка имеет на кухне столько фартуков, сколько имел он в своём парадно-секретном гардеробе.
Популяризаторы идей Генона соревнуются у нас с некоторых пор друг с другом в опылении нестойких умов химерами традиционализма. Некто Леонид Охотин в патриотическом журнале "Наш Современник" (№ 10 за 1992 год) в статье с помпезным названием: "Традиция и Россия" прямо пишет: "Как бы то ни было, идеи Генона и традиционалистов послужат лишь целиком на пользу православию".
Обратите внимание на это типично интеллигентское прозрачно-безответственное "как бы то ни было". То есть не важно что будет с Россией, лишь бы новая идейная блажь привилась, а там посмотрим. Оккультисты-мичуринцы уже изрядно навредили России, заставив наш народ умываться кровью, завозя разного рода идейные заморские суррогаты в виде либерализма, большевизма и демократии.
Далее господин Охотин утверждает, что "Генон- это последний шанс России". Подразумевается Россия православная. Если же так думают и другие православные традиционалисты, то за судьбу православия у нас действительно беспокоиться нечего. Связавшись с Геноном оно рухнет в одночасье.
Только такие безграмотные люди, как наши православные традиционалисты могли избрать себе кумира в лице Рене Генона. Поразительно, что современные русские космисты, евразийцы, гностики и православные традиционалисты умудряются пропагандировать собственные измышления опираясь сразу на Рене Генона и Юлиуса Эволу. Они ставят их в один ряд.
Великий итальянский философ прекрасно разглядел в самозванном традиционалисте своего врага, открыто заявив, что ислам и все иные семитские гностические заигрьвания с Востоком, составляют прямую угрозу белой европейской цивилизации.
Генонизм- это диагноз, это фатальная биологическая конституция, поэтому и сегодня к нему особую тягу испытывают гей-интернационалисты.
Генонизм- это идеологическая барахолка, где могут свободно соседствовать самые противоречивые вещи. Поэтому всех искателей умственной экзотики и эзотерического изыска мы от души пощдравляем с удачным приобретением. По Сеньке и шапка.
Замечательный современный французский философ Гийом Фэй посвятил этой теме статью с характерным названием: "Нет ничего более далёкого от Традиции,чем "традиционализм". Он пишет: "В действительности дух современных традиционалистов представляет собой неотъемлемую часть западной торгашеской цивилизации... Традиционализм- это теневая сторона, оправдание, живое кладбище современного буржуа, духовное дополнение к нему..."
Целая плеяда традиционалистов-генонистов - "поисковиков пути" перешла в ислам: Мишель Вальзан, Фритьоф Шуон, Титус Буркхард, Клаудио Мути, обрезался даже коммунист Роже Гароди.
В 1993 году во Флоренции состоялся форум европейских мусульман под характерным генонистским названием "Ислам- шанс для Европы". Заправляли на нём хорошо узнаваемые уже лица с подвигом в сторону купли-продажи духовных традиций. Они заявляли, что ещё сам Мохаммед предсказывал обращение всей белой расы в ислам. Как следствие во Франции возникло движение противодействия под названием "Белый бумеранг".
Мистики свидетельствуют, что каждый народ имеет своего ангела-хранителя. Но тогда, следуя логике и перенося её в метафизику, можно смело утверждать, что и ангелы-хранители народов также имеют духовно-расовые различия. Безродный ублюдок с крыльями, порхающий в сумбурных грёзах генонистов, объективно не существует, и вся мировая история противостояния и борьбы народов- тому наглядное подтверждение.
Для того, чтобы прекратить все спекуляции традиционалистов на метафизическом уровне, необходимо поставить любую идею в точное соответствие с её биологическим носителем- человеком, и воспринимать одно, как логическое следствие другого. Усилиями "традиционалистов" все традиционные все традиционные идеалы и ценности перемешаны в таком отвратительном месиве духонесовместимых компонентов, что у нас нет никакого желания копаться в нём. Обыкновенная человеческая брезгливость не позволяет нам заняться выявлением "подлинных" и "аутентичных" останков в этом кладбище человеческой культуры.
Мы просто создадим Новую Традицию.
Этот термин впервые в мировой современной философии был введён в 1996 году русским неоязыческим мыслителем Александром Константиновичем Беловым в его книге "Молот Радогоры".
Вкратце её первоначальные, но абсолютно фундаментальные принципы таковы: "Новая Традиция- это только то, что противостоит традиционализму с единственной целью: оживить общественное бытие, извлечь его из рутины самозабвенного успокоения и исторической дряхлости. Новая Традиция должна обеспечить жизнеспособность всему процессу воспроизводства нации в продуктах её духовного и материального творчества".
Главное же функциональное и качественное отличие классического традиционализма от Новой Традиции состоит в том, что первый строит свой сегодняшний день исключительно как придаток прошлого, а вторая напротив предлагает строить наше настоящее из будущего.
Наш "золотой век", как высший эталон бытия и национального расцвета, заключен не в непроглядных чащобах прошлого времени, а напротив отстоит от нас в будущем, приблизить которое, является делом нашей совести и направленной воли. Приблизить будущее, а не своё прошлое, как нам предлагают традиционалисты. Традиционализм во всём тронут неизбывной печатью пессимизма, тоски и угасания. Настоящее в нём всегда хуже; чем прошлое, и это- основной ракурс мышления.
Идеал традиционалиста будет отягощать вас как чудовищный, неврастенический комплекс, внося неполноценность в каждое ваше действие. Вы всегда будете только придатком Героев, потому что Герои остались в прошлом. Традиционалист обречён на вечное копирование чьего-то исторического опыта, лишив себя возможности работать над оригиналом.
Напротив, новая Традиция избавляет вас от груза чужих поражений и неудач. Ваш триумф, ваше место в истории- отпечаток вашей собственной воли и нашей самоотдачи.
Новая Традиция не декларирует своей привязанности к истории народа именно потому, что она и является его историческим прорывом. Как правило те больше всего трезвонят о своей совмещаемости с традицией того или иного народа, кто на деле к ней никакого отношения и не имеет. Внушаемость- лучший способ преодолеть осознанную неприкаянность и отсутствие генетической сцепляемости с фактурой национального бытия.
Новая Традиция не скрывает, что исходит из базовой концепции необходимости создания нового типа человека. Это- тип господина, тип властелина собственной судьбы, властелина будущего мирового пространства. Он уже идёт на смену паралитику-традиционалисту, расчищая новую духовную территорию бытия.
Владимир Авдеев
Газета "НАРОДНАЯ ВОЛЯ"
В.Б.Авдеев
БИОЛОГИЧЕСКАЯ ОСНОВА НОРДИЧЕСКОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ
«Нордическая идея - это выражение мировоззрения, для
которого возвышение
человека является божественной заповедью»
Ганс Ф. К. Понтер
«Сегодня каждое явное подчеркивание нордической точки зрения приносит выгоду»
Ойген Фишер
Даже люди, не знакомые с расовой теорией, имеют представление о том, что обозначает понятие нордическая раса. Высокие статные голубоглазые и светловолосые красавцы с древнегреческого Олимпа и из скандинавских саг возникают в нашем воображении сами собой, стоит лишь произнести это магическое словосочетание, будто само собою источающее солнечную энергию, неземное великолепие и сверхчеловеческую силу.
Пресыщенные осознанием собственного величия древнеримские патриции, своевольные германские рыцари, русские былинные чудо-богатыри и грациозные, "будто лебедь белая", русские сказочные красавицы, а также точно с вырезанными из слоновой кости лицами офицеры СС и, наконец, сдержанные английские джентльмены - все это обилие исторических персонажей различных эпох и народов, тем не менее, в первую очередь характеризуется именно термином нордический, обозначающим совокупность физических и духовных характеристик людей, происходящих с единой северной прародины.
Но это ассоциации, если же перейти к фактам, то картина вырисовывается совершенно парадоксальная. Кажется, что в слове "нордический" кроется нечто хитроумное, иностранное, от диковинной и не понятной русскому человеку расовой теории. Такова сегодня доминирующая точка зрения на данный вопрос, причем не только в России, но и за рубежом.
Ведущие расовые теоретики современности также считают определение нордическая раса неотъемлемой частью науки, ее привычной и устоявшейся научной категорией, но очень мало кто знает, что человек, который впервые предложил это понятие для обозначения определенной антропологической общности, родился в Астрахани.
Русский расовый теоретик Иосиф Егорович Деникер (1852-1918) происходил от французских родителей (поэтому правильное ударение на последний слог), но, будучи крещенным в православие, на что указывает русское отчество, по законам Российской империи автоматически признавался русским подданным. Именно как русский ученый он числится в словаре Брокгауза и Ефрона, а также в Большой Советской энциклопедии 1955 года издания, признавшей, что "классификация рас Деникера не устарела до сих пор". Ссылки на его основную работу 1900 года "Человеческие расы" можно без труда встретить во многих советских академических работах по антропологии. Один из ведущих расовых теоретиков Веймарской Германии, а затем и Третьего Рейха Ганс Ф. К. Гюнтер в своей фундаментальной работе "Нордическое мировоззрение" открыто признавал, что название базовой части немецкой расовой доктрины "впервые ввел русский расовый теоретик Деникер". Другой крупный немецкий авторитет в означенной области Вальтер Шейдт свою книгу по систематизации терминологии назвал "История антропологии от Линнея до Деникера". Никаких сведений о том, что он имел проблемы с политическими ведомствами Рейха из-за упоминания русского антрополога в названии книги, не имеется.
Австрийский расовый специалист Эрих Фегелин в своей книге "Раса и государство" ясно писал, что термин "нордическая раса впервые введен Деникером". Примеры из германоязычной литературы можно приводить и далее. В "демократической" части тогдашнего мира вклад русского ученого также безоговорочно признавался. Американец Оттс Клинеберг в монографии "Расовые различия" свидетельствовал: "Никто еще не смог до Деникера создать такую расовую классификацию, в которой бы использовалась комбинация признаков, таких, как структура волос, цвет кожи, цвет глаз, форма носа и другие, что позволило сократить количество известных рас до семнадцати, и двадцати одной подрасы, в то время как предыдущие исследователи, основываясь на классификации по отдельным признакам, называли различное их число от трех до трехсот".
Поразительно, но факт остается фактом, русский исследователь французского происхождения сумел добиться всеобщего неоспоримого признания своего научного вклада в самую политизированную науку XX века. Его признали даже в Советской России, хотя он принадлежал к иностранцам по происхождению и к так называемым старым царским специалистам, в Германии Гитлера, несмотря на то, что он олицетворял собой ненавистный образ "азиатских орд большевиков", да еще в самой главной части государственного культа. В "свободном англо-саксонском мире" он также снискал уважение и популярность, невзирая на то, что там не любят слишком часто произносить французские имена и с опаской относятся к русским.
Для того, чтобы лучше понять суть новаторства Деникера, рассмотрим вкратце историю развития понятийной базы расовой теории, ибо без корректной методологии и терминологии ни одна наука существовать не может. Однако все пояснения будем давать с учетом расовых и географических региональных ограничений, заявленных в названии нашего эссе. Кроме того, мы считаем также необходимым оговориться, что историю развития расовой систематизации здесь и далее будем приводить по методике Вальтера Шейдта с некоторыми авторскими дополнениями, в связи с тем, что советские классификации и соответствующие им рубрикаторы, разработанные Я. Я. Рогинским и М. Г. Левиным, не выдерживают никакой критики - этот апофеоз безграмотности и политической ангажированности, к сожалению, преподавался у нас в стране как эталон "передовой науки" нескольким поколениям антропологов.
Французский этнограф Франсуа Бернье в 1672 году впервые в Европе ввел в обиход термин раса, который поначалу имел еще совершенно этнографический смысл. Однако представители англосаксонской научной школы предпочитают до сих пор закреплять первенство в этой области за собой, определяя дату авторства самым концом XVII века.
Немецкий философ Готтфрид Вильгельм Лейбниц в 1700 году вводит понятие европеоидной расы, а англичанин Джеймс Бредли в 1721 году для обозначения биологической общности коренного населения Старого Света применяет его более упрощенный и компактный вариант - европеоиды.
Гениальный шведский естествоиспытатель Карл Линней в 1735 году первым применяет термины homo europaeus (человек европейский) и homo albus (человек белый), а в 1746 году создает первую расовую классификацию, основанную на психосоматических и физиологических признаках. Выглядит она так.
1. Americanus rufus - американец. Рыжеволос, холерик, держится прямо, упорен, самодоволен, подчиняется традиции.
2. Europaeus albus - европеец. Блондин, сангвиник, мускулист, подвижен, остроумен, изобретателен, подчиняется закону.
3. Asiaticus luridus - азиат. Желтолиц, меланхолик, гибок, жесток, скуп, любит роскошь, одевается в широкие одежды, подчиняется мнению общества.
4. Afer niger - африканец. Черного цвета, флегматичен, вялого телосложения, хитер, равнодушен, малоподвижен, умаслен жирами, подчиняется произволу.
Жорж Бюффон в 1749 году настаивает на принятии определения европейской расы, а Джон Хантер и Иммануил Кант в 1775 году, одновременно в Англии и в Германии, вводят понятие белой расы.
Крупный немецкий ученый Иоганн Фридрих Блюменбах в 1776 впервые в интересах классификации использует краниометрические исследования черепов различных этнических групп, в связи с чем приходит к выводу о правомерности использования более широкого определения того же антропологического типа - кавказская раса.
Француз Жорж Кювье в 1800 году в качестве основы расовой классификации использует цвет кожи, поэтому называет европейскую расу - лейкодермной, однако его соотечественник Жан Батист Ламарк в 1809 вновь отдает предпочтение названию кавказская раса.
Знаменитые немецкие романтики Август Вильгельм и Фридрих Шлегели в начале XIX века на основе лингвистических изысканий вводят понятие индогерманцы, которое многими их последователями совершенно ошибочно переносится и в область антропологии. Английский филолог Макс Мюллер в 60-х годах XIX века первым вводит понятие арии, основываясь на данных сравнительного языкознания и сравнительного религиоведения. Увы, поначалу он вновь повторяет ту же ошибку, смешивая языковое и культурное родство с расовыми признаками. Французский историк Эрнест Ренан в это же время для выявления большей содержательности и контрастности определения ариев выводит их вечных исторических антагонистов - семитов.
Но начало создания классической расовой теории в 1853- 1855 годах принято связывать именно с именем графа Жозефа Артюра де Гобино. Он одним из первых начал выделять внутри единой белой расы прототип высокорослой долихокефальной (длинноголовой) голубоглазой расы. Его современник Густав Фридрих Клемм в 1842-1852 годах подразделил человечество на активные и пассивные расы, и среди первых выделил более светлую и более темную расы.
Известные немецкие расовые теоретики Людвиг Вольтман и Хьюстон Стюарт Чемберлен на рубеже XIX и XX веков для определения северного расового типа использовали термин германцы, вновь перенеся этническую и языковую характеристики на расовые признаки. Увы, их авторитет все слишком запутал, создав в дальнейшем неоправданные идеологические перекосы в расовой теории.
Правда, еще в 1884 году немецкий языковед и историк Отто Шрадер внес некоторые антропологические коррективы в определение термина: "Арийская раса первоначально соответствовала белокурым северным расам, среди которых развились арийский язык и культура, привившиеся при переселении и скрещивании другим, неарийским расам". Крупнейшие расовые теоретики этого же периода Отто Аммон и Жорж Ваше де Лапуж вновь предпочли вернуться к апробированному термину Линнея homo europaeus, но используя его как антропологический синоним термина арийцы. Оба во всех своих работах вслед за Гобино выделяли длинноголовых и высокорослых, голубоглазых блондинов в качестве основы белой расы, или иначе - ее расового ядра.
В 1870 году английский антрополог Томас Генри Гексли в целях большей ясности выделил в европеоидной расе более светлую ксантохроидную расу (xanthochroide rase) и более темную меланохроидную расу (melanochroide rase).
В разное время другие антропологи и естествоиспытатели создавали свои расовые классификации, уделяя должное внимание физической неоднородности населения Европы: Августин Тьерри (1817), Этьен Жоффруа Сент-Илер (1818), Бори де Сен-Винсан (1827), Амедей Тьерри (1828), Джеймс Причард (1836), Андерс Ретциус (1842), Роберт Нокс (1850), Чарльз Дарвин (1859), Поль Брока (1860), Исидор Жоффруа Сент-Илер (1870), Томас Генри Гексли (1870), Поль Топинар (1878).
С географической привязкой прародины ариев также поначалу не было никакой ясности, и отчасти по вине историков и лингвистов.
Этнограф Омалиус д'Аллуа и антрополог Поль Брока первыми восстали против лингвистической концепции происхождения ариев, созданной Максом Мюллером и другими ориенталистами, которые полагали, что их прародиной является Азия. Отто Шрадер в 1890 году "поселил" предков арийцев на юге России, Исаак Тейлор в 1906 году оппонировал ему, заявляя, что нашими предками была "кельтская раса из центральной Европы". Талантливый немецкий антрополог Карл Пенка в 1883 году в своей книге "Происхождение ариев" доказывал, что их прародина находилась в Скандинавии: "Чистокровные арии представлены только северными германцами и скандинавами - самой плодовитой расой, наделенной крупным телосложением, большой мускульной силой, энергией и храбростью. Блестящие природные дарования этой расы позволили покорить немощные расы Востока, Юга и Запада и навязать свой язык этим народам". Таким образом Карл Пенка первым указал на несоответствие антропологических факторов доводам лингвистов, позже его поддержал другой известный антрополог - Людвиг Вильзер. В англоязычном научном мире на это веяние в сторону "нордизации" арийской прародины сразу же откликнулись Джон Рис (1886), который предположил, что арийцы могли происходить откуда-то из пределов арктического круга, в частности с севера Финляндии, а также Джеральд X. Рендалл (1889), который дал арийцам следующее определение: "Долихокефалическая раса блондинов, происходящая с Балтийского побережья. Ариец представляет собой тип разумного человека - основной продукт рас, в котором особые качества тьмы и света, Севера и Юга, эмоциональности и практицизма смешались и соединились в высшие и переходные состояния разума и тела".
Однако подлинную сенсацию в Европе произвела книга индийского брахмана Бала Гандахара Тилака "Арктическая родина в Ведах" (1903), где он, основываясь на энциклопедическом знании Священных Вед, доказал, что арийская раса могла вести свое происхождение только с Севера. Несколько позже сходные данные были получены и на основе другой священной книги ариев "Авесты". Таким образом, обе живые древнейшие арийские традиции, индуизм и зороастризм, свидетельствовали в пользу одной и той же теории, чем многократно и реличивали ее достоверность.
Одновременно с этим получала дальнейшее развитие эволюционная теория Чарльза Дарвина, а в 1900 году были вторично открыты законы наследственности Грэгора Менделя, в связи с чем понятие "расовой чистоты" было доказано на генетическом уровне. В том же году впервые было выдвинуто биологическое обоснование существования различных групп крови, а несколькими годами ранее была завершена титаническая работа Немецкого антропологического общества, которое под руководством Рудольфа Вирхова исследовало черепа современных европейцев в сравнении с ископаемым материалом, собранным палеантропологами. Концепция нордической прародины ариев была подтверждена. Томас Морган и Август Вейсман в это же время создали "теорию зародышевой плазмы". И в этом же 1900 году фирма Крупна, прекрасно чувствуя конъюнктуру, объявила конкурс научных работ о влиянии теории Дарвина на внутреннюю политику и законодательство государств.
Именно в это время расовая теория и сформировалась как отдельное направление науки с именами, достижениями и титулами. И опять же в 1900 году на французском языке появилась большая сводная работа И. Е. Деникера "Человеческие расы", в которой впервые в научной практике был применен новый синтетический принцип расовой классификации. "Что касается классификации рас, то для нее принимаются в расчет одни только физические признаки. Путем антропологического анализа каждой из этнических групп, мы попытаемся определить расы, входящие в ее состав. Затем, сравнивая расы друг с другом, будем соединять расы, обладающие наибольшим числом сходных признаков, и отделять их от рас, обнаруживающих наибольшие с ними различия".
Под расой Деникер четко понимал "соматологическую единицу", и со всяким идеализмом в антропологии таким образом было покончено. Вся книга по сути и посвящена отделению друг от друга этнографии и антропологии, которые автором определяются как явления различного порядка: первое - социологического, и второе - биологического. Он пишет: "Несколько лет тому назад я предложил классификацию человеческих рас, основанную единственно лишь на физических признаках (цвете кожи, качестве волос, росте, форме головы, носа и т.д.)".
Деникер по сути первым встал на позиции жесткого и последовательного биологического детерминизма в расовой философии.*По его мнению, окружающая среда бессильна перед расовыми признаками. Он пишет: "Расовые признаки сохраняются с замечательным упорством, невзирая на смешение рас и на изменения, обусловленные цивилизацией, утратой прежнего языка и т.д. Меняется лишь отношение, в котором та или иная раса входит в состав данной этнической группы".
Обобщая весь накопленный опыт предыдущих исследователей, Деникер ставит точку в споре об арийцах, вводя новый термин, принципиально не имеющий ничего общего с романтическими концепциями лингвистов: "Длинноголовую, очень рослую, светловолосую расу можно назвать нордической, так как ее представители сгруппированы преимущественно на севере Европы. Главные ее признаки: рост очень высокий: 1,73 метра в среднем; волосы белокурые, волнистые; глаза светлые, обыкновенно голубые; голова продолговатая (головной указатель 76-79); кожа розовато-белая; лицо - удлиненное, нос - выдающийся прямой". Терминологическая путаница в расовой теории закончилась, термин арийцы плавно отошел в сферу культурологии, социологии и религиоведения: "Не может быть и речи об арийской расе, а позволительно говорить только о семье арийских языков и, пожалуй, о первобытной арийской цивилизации".
Работа "Человеческие расы" появилась в 1900 году, но была обобщающей, сам термин нордическая раса был введен в употребление годом ранее. Несколько позже ведущий расовый теоретик Германии Ганс Ф. К. Гюнтер, всегда стоявший на позициях нордической философии, в своей книге "Расовые элементы в истории Европы" давал пояснение в том же духе: "В филологии раньше словом "арийский" обозначали индоевропейские языки; сегодня этот термин обычно используется лишь применительно к индоиранской ветви этой языковой семьи. В начале расовых исследований иногда называли (не существующую) белую или кавказскую расу арийской; позже арийцами стали называть народы, говорящие на индоевропейских языках, и, наконец, нордическую расу. Сегодня термин "арийский" вышел из научного употребления и использовать его не рекомендуется, особенно с тех пор, как он стал ходовым среди профанов в порядке противопоставления "семитам". Но от термина "семиты" антропология тоже отказалась, так как на семитских языках говорят народы самого различного расового происхождения".
Однако пусть русский читатель не удивляется, что эта информация, хорошо освоенная в кругах европейских интеллектуалов, столь слабо представлена у нас. Русский писатель и социолог Яков Александрович Новиков (1850-1912), автор десятков популярных изданий по расовым и этническим проблемам, также предпочел писать по-французски, ибо русская интеллигенция, погруженная в мечты об идеалах в духе чеховской "Чайки", к расовой теории оказалась совершенно невосприимчивой, за что и поплатилась 1917-м годом. Увы, но факт остается фактом, сегодня Иосиф Егорович Деникер и Яков Александрович Новиков составляют золотой фонд расовой теории на французском языке и совершенно неизвестны у себя на родине.
Английский исследователь сэр Артур Кит в 1912 году заявил, что "политическая концепция расы должна быть принципиально понята с биологической точки зрения". Нордическая теория начинает набирать обороты, и все увереннее вырабатывается точка зрения, что внешние отличительные признаки нордической расы являются результатом ее биологических отличий от других рас.
Увлечение пресловутыми "обмерами черепов" начинает отходить на второй план и возникает биохимическая концепция расы. Теоретически она создается на основе многочисленных обобщений практических работ таких ученых, как Луис Берман (1925), Лоуренс Хесбрук Снайдер (1926), Гилберт Джозеф Рич (1928), Вильгельм Круз (1929), Геррит Смит Миллер (1930), Генри Эттер Стар (1931), Рей Грэхем Хоскинс (1933), Лиланд Вайман (1935) и Вильям Бойд (1935). В Германии наибольшего успеха в данной области добился биолог Отто Рехе, из его многочисленных работ, посвященных расовой идентификации на основе групп крови, явственно следовало, что именно первая и вторая группы крови внутри белой расы являются преимущественно нордическими. Причем процент первой группы крови всегда закономерно увеличивается в сторону так называемого расового ядра, в котором расовые признаки выражены с наибольшей неповторимостью и отчетливостью.
Американские биологи Л. Вайман и В. Бойд поэтому справедливо отметили, что "группы крови существуют дольше, чем современные расы". Их соотечественник Отто Клинеберг в этой связи отмечал: "Проблема расовой дифференциации основывается, прежде всего, на внутреннем обмене веществ, который в свою очередь является базисом, от которого зависят психические и ментальные характеристики личности. Клинические наблюдения со всей ясностью показали степень влияния факторов эндокринной системы на человеческую индивидуальность, что дает возможность использовать психические характеристики в целях расовой классификации, а в целом позволяет говорить уже об открытии научной расовой психологии". Г. Э. Стар и Д. Рич также указывали: "Компоненты человеческой крови, такие как гемоглобин, креатинин, фосфаты, сахар, кальций и многие другие, проливают свет на биохимическую основу человеческой индивидуальности. Основные расовые группы четко дифференцируются по составу этих элементов".
Немецкие классики расовой гигиены Эрвин Баур, Ойген Фишер и Фриц Ленц в своей совместной базовой работе "Учение о человеческой наследственности" (1936) также подчеркивали: "Расовые различия в основном зависят от различий внутренней секреции. Конституция тела, интеллектуальные и психические характеристики и прочие расовые особенности детерминированы ими".
Таким образом, расовая психология получила мощный импульс к развитию. Одновременно с этим, некоторые исследователи на основе простейших наблюдений начали приходить к выводу, что внешние расовые признаки напрямую связаны с психическими и интеллектуальными способностями. Хэвлок Эллис еще в 1904 году установил связь цвета кожи и коэффициента интеллекта, чем дал новые подтверждения в пользу биологического превосходства нордической расы. Исследовав Национальную портретную галерею в Лондоне, он обнаружил, что большинство великих людей были блондинами. Катерина Блэкфорд в 1914 в своих эссе по расовой психологии характеризовала блондинов такими позитивными качествами, как динамичность, активность, инициативность, а брюнетов негативными - статичность, вялость, безынициативность, консервативность.
Далее ученые Дональд Патерсон (1922), Раймонд Пирл (1924), Эвелин Хантингтон (1924), Джордж Эстабрукс (1928), Катерина Ева Ладгейт (1930) провели многочисленные исследования расовых групп на основе коэффициентов интеллекта (Щ) и пришли к однозначному выводу, что блондины статистически обладают более высоким Щ по сравнению с брюнетами, а голубоглазые точно так же стабильно превосходят кареглазых.
Жорж Ваше де Лапуж в своей книге "Ариец и его социальная роль" (1895), не зная еще ничего о будущих исследованиях, провидчески писал: "Длинноголовые блондины исполняют функции мозга и нервов в общественном организме, а короткоголовые брюнеты и их метисы играют роль мышц и костей".
Министр сельского хозяйства Третьего Рейха Рихард Вальтер Дарре в книге "Свинья как критерий у нордических народов и семитов" (1933) развил оригинальную концепцию о биологической взаимосвязи тотемных животных с расовыми характеристиками поклоняющихся им народов. Используя древнегерманскую и античную мифологии, он приходит к выводу о том, что свинья всегда сопутствовала нордическим оседлым народам, именно поэтому южные кочевые семиты и тюрки ее недолюбливают. Ритуальное запрещение вкушать свинину у этих народов является генетической памятью об ущербности кочевых южан по сравнению с оседлыми северянами. Он пишет: "Речь идет о взаимосвязи определенных народов или человеческих рас, с одной стороны, и определенных пород домашних животных, с другой". Свинья - это символ нордической оседлости, ее главный биологический указатель, именно за это иудаизм и ислам так ненавидят ее, ибо это ненависть, возведенная в ранг религиозного абсолюта. Причем ненависть, лучше всего проливающая свет на собственное биологическое происхождение.
Далее Рихард Вальтер Дарре в своей книге приступает к рассмотрению весьма важного вопроса, которому до этого не уделялось должного внимания. "Расовая теория до сих пор не занималась такой проблемой, как питание и раса, зато в животноводстве известна взаимосвязь между питанием и породой; так как одинаковые реакции обмена веществ у разных пород домашних животных протекают по-разному. Белок в пище имеет разную "ценность"... В процессе пищеварения белок разлагается на аминокислоты и затем снова синтезируется в специфический для данного организма белок. Управляют обменом веществ протеины. Протеины всегда специфичны, поэтому протеины пищи и переваривающего ее организма должны быть совместимыми, подходить, как ключ к замку... Поэтому получается, что семиты и свиньи - это физиологические антиподы".
Правильная жизнедеятельность организма зависит от гармоничного обмена веществ, по мнению Дарре, ввиду этого представителям разных рас необходимы различные по биохимическому составу продукты питания. Свинья, таким образом, это древнейший биогенетический индикатор расового различия оседлых народов от представителей кочевых.
Свои утверждения Дарре подкрепляет и анализом сортов хлеба, которые предпочитают различные расовые группы, для чего удачно цитирует путевые заметки Гете, пересекавшего границы романского и германского миров. Гениальный классик немецкой литературы подметил, что на Юге Европы видел "черных девушек и белый хлеб", а на Севере - "белых девушек и черный хлеб". Из чего следует закономерное умозаключение, что не только домашние животные, но и злаки, употребляемые человеком в пищу, проливают свет на расовые различия. Исследуя тончайшие нюансы физиологии питания, географию сельского хозяйства, автор говорит уже о расовой экологии и делает вывод: "Прародина нордической расы - лесная зона Северной Европы с умеренным климатом".
После биохимической основы расовых различий, в свете нашей темы будет правомерно перейти к рассмотрению исходных утверждений расовой психологии, для чего и обратимся к классической работе Людвига Фердинанда Клаусса "Нордическая душа" (1939).
В ней он писал: "С точки зрения психологии под расой мы понимаем не хаотический набор "свойств" или "признаков", а общий стиль переживания, определяющий цельность характера... Расовая психология призвана определить те границы, которые ни один народ не может нарушать или открывать без разрушительных последствий для себя. Если нордическое переживание "центробежно", то восточное можно было бы назвать "центростремительным". Внешняя "холодность" нордического человека объясняется его стремлением сохранить дистанцию между собой и окружающим миром. Способность "объективировать" мир - нордическая способность". Клаусе показывает нам, что расовые различия накладывают неизгладимые отпечатки на всю специфику переживаний, ландшафт же местности только усиливает генетическую данность. "Местность - это материал, который душа преобразует в своем стиле и превращает в ландшафт... Но не всякая местность дает одинаковые возможности для такого преобразования... Северное море - это бесконечные дали, а на Средиземном берег всегда близко. Даже если он не виден, знаешь, что он близко или даже чувствуешь его близость по видимым признакам. Здесь все ограничено настоящим временем и красиво с постоянным соблюдением пропорций. Северное небо высоко и по нему все время бегут облака, до южного - рукой подать, а облака по нему либо лениво плывут, либо затевают игру друг с другом. Север учит человека стремиться во все новые и новые дали, а юг, Средиземноморье зовет остаться на нем вечно: там все соблазн, счастливое настоящее.
Нордическая душа устремляется вдаль, и в частности, на юг, но юг для нее - как свеча для мотылька. Разлагающее влияние юга проявляется в том, что исчезает желание куда-либо стремиться".
В другой своей книге "Душа и раса" (1940) Клаусе указывал на то, что представители различных рас по-разному воспринимают цвет, пространство, пластические формы, время, движение. И в то время, как представители южных рас живут внешними эффектами, жеманством, игрой, человек нордической расы живет сутью внутренней энергии, ее постоянным переживанием. "Раса - это форма, а форма живых существ является расовой в той степени, в какой она наследуется... Меняются поколения, но не форма. Только если исходить из души, можно увидеть закономерную связь, соединяющую формы души и тела, две части одного целого. Мы говорим здесь о форме нордического человека действия, потому что действие - это определяющая ценность в его иерархии ценностей; он воспринимает мир как нечто, ему противостоящее, во что он должен вмешаться, чтобы что-нибудь из это сделать. Это его основная родовая позиция, определяющая способ движения. Он не может иначе, потому что его закон душевной формы ему так предписывает. Этот закон - последняя объяснимая инстанция. На вопрос "почему?" ответа нет".
Такова была доминирующая позиция расовых теоретиков первой половины XX столетия. Но современные исследования в области генетики полностью подтверждают их, еще в общем-то эмоциональные и поэтизированные, воззрения. Самое комичное же заключается в том, что советская антропологическая школа, в задачи которой входило официально разоблачать "бредовые химеры расизма", самым недвусмысленным образом повторила все основные постулаты классической расовой теории, причем проделала это с таким методическим упорством, о котором в Третьем Рейхе и мечтать не могли.
Просто никто не брал на себя труд изучать советские работы по антропологии и генетике с позиций классической расовой теории. Пресловутая концепция "биологического превосходства нордической расы" под таким ракурсом приобретает академический ореол непогрешимости "передовой советской науки", служащей идеалам "всего прогрессивного человечества".
Как мы показали выше, название базовой категории немецкой расовой философии дал русский ученый, в чем немецкая сторона неоднократно признавалась. Кроме того, в самый разгар идеологического противостояния известная немецкая расовая исследовательница Ильзе Швидецки в своей книге "Расовое учение древних славян" (1938) доказала, что "западная и восточная ветвь славянства безусловно принадлежат к нордической расе". Польша так же, как и Германия, в описываемый период не входила в число друзей Советского Союза, однако ее ведущие антропологи Ян Чекановский и Кароль Стояновский в своих исследованиях придерживались той же точки зрения на расовую принадлежность славян. Американские специалисты Лотроп Стоддард и Медисон Грант характеризовали население северной и центральной части России как "континентальных нордиков".
Один из ведущих специалистов Германии в области биохимического анализа расовых признаков Отто Рехе в своих работах добросовестно ссылался на труды советских ученых Б. Н. Вишневского, А. А. Мелких, В. Я. Рубашкина. Будучи членом НСДАП, он, тем не менее, как добросовестный ученый, не считал нужным скрывать, что в основе методики вычисления чистокровных арийцев в Третьем Рейхе лежали "Труды постоянной комиссии по исследованию групп крови" из Харькова, журнал "Врачебное дело", "Новый биохимический расовый указатель" и иные достижения советских ученых.
Немецкие специалисты в области дерматоглифики, то есть методики определения рас и национальностей по отпечаткам пальцев, также базировались на работах советских исследователей П. С. Семеновского и М. В. Волоцкого. Разработчики концепции расовой гигиены в Германии активно печатали Н. К. Кольцова, Ю. А. Филипченко, Б. И. Словцова. У немецких расовых психологов в большой чести был В. М. Бехтерев, у генетиков - Н. В. Тимофеев-Ресовский и А. С. Серебровский. Известный современный англоязычный писатель Роберт Н. Проктор в своей книге "Расовая гигиена" (1988), ссылаясь на архивные документы, приводит такие любопытные факты. Н. В. Тимофеев-Ресовский был послан в Германию в рамках правительственного соглашения с СССР и стал директором Института генетики при Институте Кайзера Вильгельма в Берлине, позже читал лекции на курсах повышения квалификации офицеров СС, а в 1938 году на открытом собрании партийной элиты, посвященном текущим вопросам расовой политики, выступал с докладом сразу же после начальника Расового департамента НСДАП Вальтера Гросса, но перед главным идеологом Третьего Рейха Альфредом Розенбергом. Комментарии, как говорится, излишни.
Сразу же после победы над Германией в советской научной литературе развернулась целая кампания по корректировке исторической концепции происхождения русского народа на основе новейших данных антропологии и археологии. Еще в 1930 году советский историк Ю. В. Готье в своей книге "Железный век в Восточной Европе" писал: "Размещение славянских племен на левом берегу Днепра уже само по себе наводит на мысль, что проводниками раннего славянского продвижения к востоку и юго-востоку должны были быть северяне". П. Н. Третьяков в книге "Восточно-славянские племена" (1953) наглядно подтвердил эту же мысль. В публикациях того времени явственно ощущался политический заказ: под неусыпным оком "отца народов" доказать, что "старший брат в семье братских советских народов" - русский - потому и является старшим, что имеет сугубо нордическое происхождение. Кинематограф, живопись, ваяние той эпохи дают наглядное тому подтверждение. Запечатленные в произведениях искусства расовые идеалы побежденных плавно перешли к победителям. Образы и силуэты Езефа Торака и Арно Брекера - ведущих немецких скульпторов - усилиями советских ваятелей нашли свое отражение на Мамаевом кургане в Сталинграде и украсили станции Московского метро, а парадный вход в Библиотеку им. Ленина до сих пор, как две капли воды, похож на фасад Рейхсканцелярии.
О нордическом происхождении славянского мира можно написать еще очень много, привести множество свидетельств, но один единственный факт является самым красноречивым и неоспоримым доказательством этой концепции. Какой еще народ, кроме русского, своим этническим самоназванием дал определение одному из важнейших расовых, и именно нордических, признаков, каковым являются русые волосы?
Авторы Т. И. Алексеева, В. А. Бацевич, 0. В. Ясина в статье "Фотоколориметрическое определение цвета волос в различных этнотерриториальных группах СССР" (Вопросы антропологии, вып. 84,1990) отмечают, что цвет волос является одним из "важнейших расово-диагностических признаков", субъективные оценки в определении которого недопустимы. "В волосах светлых, особенно пепельных оттенков, содержание феомеланинов резко понижено. Судя по данным Русской антропологической экспедиции, для русского населения преобладающим оказываются темно-русые волосы, хотя довольно значительна частота среднерусых оттенков. Последние наиболее типичны для представителей северо-западных территорий европейской части СССР, среди которых встречаются и белокурые волосы разных оттенков".
Нордическая теория, таким образом, получает новое биохимическое истолкование, ибо в результате многочисленного количества опытов было доказано, что содержание феомеланинов возрастает по мере увеличения потемнения волос в популяциях, но что еще важнее, выяснилось, что "в темнопигментированных европеоидных группах количество феомеланинов больше, чем в монголоидных". Это говорит о том, что содержание феомеланинов является своего рода универсальным расово-диагностическим маркером, безошибочно указывающим на степень расовой чистоты внутри каждой расы. У представителей расового ядра каждой расы, у которых неповторимые признаки выражены со всей отчетливостью и неповторимостью, содержание феомеланинов меньше, чем на окраине расовой периферии, где степень засорения чужеродными элементами неизбежно повышается.
Изначальный постулат расовой теории о том, что нордическая раса является расовым ядром белой расы, подтверждается здесь же самым замечательным образом: "Представители южноевропеоидной расы имеют в своем составе больший процент носителей феомеланинов, нежели представители северных европеоидов. Повышенным содержанием феомеланинов характеризуются и представители негроидной расы. В составе ЮЖЕЫХ монголоидов по сравнению с северными частота носителей феомеланинов также будет повышена". Таким образом, процент данного вещества в волосах напрямую связан с процентом чужой, пришлой крови. Авторы статьи также добавляют: "Варианты красноватых оттенков волос в русском населении очень редки". А теперь вспомните, что на Руси всегда с недоверием и опаской относились к людям с рыжими волосами, считая их нечистыми на руку, а при Петре I официальным указом им даже было запрещено свидетельствовать в суде. Рыжие также были пришлым, иноземным элементом, что отмечалось коренным расово-чистым населением. Следовательно, русские народные приметы подтверждаются данными современной генетики и биохимии.
И. С. Афанасьева в статье "Сравнительное изучение типов L-полипептидов белков волос у русских и якутов" (Вопросы антропологии, вып. 69, 1982) также подтверждает: "В классификации антропологических типов одними из важнейших признаков являются различные характеристики волос. Форме и цвету волос человека всегда придавалось настолько большое таксономическое значение, что многие ученые даже положили их в основу классификации человеческих рас. Еще в прошлом веке было показано, что расы различаются также по толщине волос, по форме поперечного сечения, величине, густоте и расположению пигментных зерен". В данной работе на основе фактического материала показывается, что европеоиды и монголоиды на примере русских и якутов четко и ясно различаются по содержанию L-полипептидов белков волос, что лишний раз перечеркивает все евразийские концепции о расовом всесмешении.
Не только на основе феомеланинов, но и на основе другого биохимического компонента - тирозиназы - концепция расового ядра вновь подтверждается в пользу нордической теории.
И. С. Афанасьева в своей работе "Современные представления о пигментации человека" (Вопросы антропологии. Вып. 82, 1989) пишет: "Обнаружена наиболее низкая средняя активность тирозиназы в светлых волосах, оттенки которых варьировали от белокурых до золотистых, при этом связи между оттенками и активностью не отмечено. Более высокие значения, то есть активность этого параметра обнаружена в каштановых волосах. Еще выше значения тирозиназы в черных волосах, причем представители основных расовых групп в этом отношении не отличаются".
Содержание тирозиназы, как и феомеланинов, возрастает в каждой расе по направлению от ее чистого биологического ядра к метиской периферии.
Избранность - это не метафора, а генетико-биохимическая данность, исчисляемая по множеству независимых параметров.
На протяжении всей мировой истории мы наблюдаем одну и ту же картину, что внутри каждой большой расы ее биологическое ядро тянет на себе бремя несовершенных помесей. Мировая история - это не только борьба больших рас, но в еще большей степени - борьба расовых ядер со своей собственной генетической периферией.
Зависть метиса к породе - сюжет в мировой литературе, не имеющий себе подобных по популярности. Моцарт и Сальери - это борьба биотипов, где низший традиционно прибегает к подлости.
Именно поэтому шведский анатом и расолог Гастон Бакман утверждал: "Если мерить цивилизацию не абсолютным количеством творческих личностей, а относительным, то чистокровные народы Севера опередят народы всех других стран Европы".
Немецкий расовый теоретик Рудольф Полланд на основе этой статистики сделал следующий вывод: "Целесообразная поддержка северных расовых элементов нашего населения, несомненно, будет способствовать евгенике психики, ибо это совпадает с поддержкой лиц, одаренных выше среднего и надежных в этическом отношении".
Групцы расовых признаков всегда теснейшим образом взаимосвязаны друг с другом. Соотнесение данных расовой диагностики по одному признаку с результатами, полученными по другому, всегда повышает достоверность общего результата, на что указывал еще И. Е. Деникер.
В своей статье "Схема соотношения пигментации волос и глаз" (Вопросы антропологии. Вып. 80, 1988) А. И. Дубов показывает, что процент содержания такого компонента, как меланин возрастает в ряду цветов глаз: голубые - синие - серые - карие - черные. Цвет глаз в свою очередь статистически взаимосвязан с цветом волос. Так обладатели белокурых волос в 75% из 100 имеют нордический светлый цвет радужины глаз, и в 25% - смешанный. Те, у кого различные оттенки русых волос, имеют светлую радужину в диапазоне от 30 до 65%. Обладатели черных волос крайне редко имеют глаза светлого оттенка, и в лучшем случае в 20% имеют смешанные оттенки радужины глаз, а в 80% - темные. Кроме того, выявлено, что голубые глаза нордической расы имеют другую структуру.
То же самое справедливо и в отношении цвета кожи. Американский биолог Курт Штерн еще в начале 60-х годов доказал неадаптивность цвета кожи у человеческих рас к условиям внешней среды. Мало того, он утверждал, что цвета кожи человека как биологический феномен объяснимы лишь на основе теории полигенизма, то есть теории множественности очагов расо-образования. Этой же точки зрения придерживается и известный негритянский расовый теоретик Ричард А. Голдсби, так что ни о какой пропаганде расизма в данном случае и речи быть не может.
В. К. Василевский, В. И. Семкин, Л. Д. Жеребцов, И. Н. Михайлов в своей коллективной статье "Первичная и вторичная меланиновая пигментация кожного покрова человека" (Вопросы антропологии. Вып. 62, 1980) также считают необходимым подчеркнуть: "Меланиновая пигментация является одним из основных факторов, влияющих на цвет кожного покрова. От нее зависят разнообразные вариации цвета кожи: расовые, возрастные, половые, индивидуальные. Подчеркивается генетическая обусловленность меланиновой пигментации".
Внешние расовые различия самым естественным образом взаимосвязаны с расовыми различиями на биохимическом уровне, и советская антропология вновь подтвердила этот постулат классической расовой теории. Авторы М. Г. Абдушелишвили, В. П. Волков-Дубровин в статье "О соотношении расовых и морфофизиологических признаков" (Вопросы антропологии. Вып. 52, 1976), опираясь на фактический материал, выводят следующую важную мысль в подтверждение нордической концепции: "Наблюдается известная связь цвета кожи с некоторыми физиологическими признаками. У наиболее светлых наблюдается замедленный кровоток и наибольшая минеральная насыщенность костной ткани, а у наиболее темнокожих значительно ниже минерализация скелета и быстрее кровоток".
Известное определение северных людей как хладнокровных, выдержанных и постоянных означает у них с биологической точки зрения большую минерализацию костных тканей, а взрывоопасный темперамент и непостоянство у южан, напротив, - пониженную. Хорошо известная метафора о северных людях, лучше всего выражающих в своем характере общенациональные черты, - соль земли - также является подтверждением генетической и биохимической основы этой народной мудрости. Люди, более всего закрепившиеся в памяти народной как достижениями во славу отечества, так и психическими чертами, в наибольшей степени отождествляемыми с национальными достоинствами и спецификой, и являются "солью земли" не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Соль земли - это воплощенный образ ядра белой расы, и сугубо нордический характер этого образа вновь очевиден.
Е. В. Тихомирова и Е. И. Хрисанфова в своей статье "К гипотезе о "несколько большей приспособленности" лиц с фенотипом 0" (Вопросы антропологии. Вып. 69,1982) анализируют статистику заболевания людей с различными группами крови вирусными заболеваниями. На основе многочисленных сводок делается вывод о "несколько большей приспособленности лиц с первой группой крови", который подкрепляется уникальным расово-диагностическим наблюдением. "Авторы объясняют и преобладание фенотипа 0 среди доноров не только его "универсальностью", но и более здоровым контингентом".
Как мы помним, повышение процента носителей первой группы крови стойко наблюдается в условиях концентрации признаков белой расы, то есть когда северный нордический элемент в населении возрастает. Более высокое биологическое здоровье доноров первой группы крови также свидетельствует об их принадлежности к нордической расе - ядру белой расы.
Т. Д. Гладкова и Л. 0. Битадзе в работе "Заметка о связи некоторых признаков дерматоглифики с группами крови системы АВО" (Вопросы антропологии. Вып. 69,1982) анализируют различные не взаимосвязанные группы расовых признаков, такие как цвет кожи, группа крови и отпечатки пальцевых узоров, и делают строгое научное умозаключение: "Встречаемость завитков уменьшается от более темных к светлопигментированным популяциям, в то время, как частота петель увеличивается в том же направлении".
Все это означает, что, в каком бы направлении рассмотрения расоразграничительных признаков мы ни двигались, всюду нас будет ожидать один и тот же вывод, сделанный первыми расовыми теоретиками еще на заре ее возникновения.
Нордическая раса является ядром большой белой расы, в которой все признаки выражены самым ярким и неповторимым образом. Генетико-биохимические отличия представителей нордической расы закономерно проявляются в их психическом и духовном складе, что, в свою очередь, находит отражение в особенностях их религии, культуры, эстетики, общественно-политических институтов, словом, во всей специфике исторического процесса.
Один из ведущих отечественных специалистов по дерматоглифике Г. Л. Хить в своей статье "Окончание линии С у различных расовых групп" (Вопросы антропологии. Вып. 59, 1977) пишет: "Признаки дерматоглифики не имели адаптивного характера на протяжении всей истории формирования монголоидного и европеоидного расовых стволов".
В свою очередь А. А. Зубов и И. М. Золотарева в работе "Монголы в мировой систематике одонтологических типов" (Вопросы антропологии. Вып. 64, 1981) на основе анализа структуры и устройства зубной системы доказывают, что русские, так же как другие средне- и североевропейцы, отличаются от монголов в три с лишним раза. "Центральноазиатский монголоидный расовый тип в одонтологическом отношении обнаруживает довольно существенную вариабельность, причем со значительными уклонениями в сторону "западного" комплекса".
Приведением этих двух последних авторитетных заявлений мы лишний раз хотим снять всякие обвинения в расовой нечистоте как в адрес русских, так и в адрес нордической расы вообще. Как видно, еще непонятно, на ком в большей степени с генетической точки зрения сказалось монголо-татарское иго: на завоеванных или на завоевателях? К сожалению, укоренилась привычка только белую расу обвинять в смешении.
В 1978 году Научно-исследовательский институт антропологии в СССР проводил комплексную программу по изучению сенсорных систем человека в различных этно-территориальных группах. Было установлено, что представители монголоидной расы, равно как и смешанные с монголоидами европейцы, обладают различной пороговой обонятельной и вкусовой чувствительностью. Весьма показательной оказалась чувствительность к горькому вкусу.
Ну, как тут не вспомнить древнерусскую поговорку "Горек хлеб врага". Как выяснилось теперь, эта метафора - пример очень точной генетической памяти народа. Во времена монгольских и тюркских завоеваний расово чистым европеоидам - русским доводилось вкушать непривычно горький хлеб чужой расы, имеющей другую пороговую чувствительность. Видимо, так и родилась на свет эта поговорка и закрепилась в народном сознании, потому что соблюдение расовой чистоты имманентно самому архетипу. "Горек хлеб врага" - это вкус ненавистного смешения.
Вкусовые различия людей также не сводимы лишь к ухищрениям национальной кухни, они генетически обусловлены. Все органы чувств без исключений имеют расовую принадлежность. Возьмем работу Е. Р. Сигала, М. И. Потапова "Собственные группы слюны человека" (Вопросы антропологии. Вып. 56, 1977). В ней авторы делают вывод такого рода: "К настоящему времени все известные генетические системы слюны показали свою зависимость от расовой принадлежности, но наиболее примечательна в этом отношении система Рв. Ее можно было бы определить как систему, присущую преимущественно негроидам. Существенно отметить также противоположный характер распределения геносистем Ра и DB среди европеоидов и негроидов". Классические предписания апартеида, запрещающие людям разных рас вместе вкушать пищу, имеют под собой, как теперь выяснилось, не предубеждения, а биологическую основу. Люди разных рас имеют различную частоту встречаемости различных генов, и поэтому болеют различными болезнями. Различие в деятельности иммунных систем ведет к тому, что в порыве ложного демократического экстаза человек одной расы через слюну может получить болезнь другой расы, к которой у него нет иммунитета. Эпоха великих географических открытий полна примерами исчезновения целых племен туземцев, соприкоснувшихся впервые с белыми колонизаторами. "Старые морские волки" пили в огромных количествах джин именно в целях дезинфекции, ибо тропические болезни, не опасные для дикарей, также нещадно косили их ряды. Да разве об одной лишь еде речь? Авторы статьи пишут далее: "Расовая дифференциация свойственна сывороточным фракциям крови, лейкоцитам, аномальным гемоглобинам, ферментам, тканям, выделениям".
Имение этими фактами и обусловлено возникновение на рубеже XIX-XX веков науки под названием расовая гигиена.
Итак, все вышеперечисленные данные советской академической науки вновь легко согласуются с постулатами классической расовой теории, что видно хотя бы из рассуждения Рихарда Вальтера Дарре о свинине и хлебе и их значении в биологическом процессе жизнедеятельности нордической расы. Традиционно русский квас на основе черного хлеба: ну чем это не очередное доказательство природно-нордического происхождения русских?
Советское расоведение, специально созданное коммунистами для профанации, дискредитации и осмеяния идей расовой теории, напротив, самым нетривиальным образом указало интеллектуальной элите, что расовая теория - это наука наук, и концепция нордической расы в ней - это обязательная часть, без которой невозможно постижение смысла мировой истории. Как заметил премьер-министр Великобритании Бенджамин Дизраэли еще в середине XIX века: "Раса - это все, более нигде нет правды".
Показательна и работа В. Е. Дерябина "Методика статистического межгруппового анализа антропологических данных: рассмотрение смешанного набора признаков" (Вопросы антропологии. Вып. 88,1995). Данная работа излагает методику расового анализа, в основе которого лежит одновременное рассмотрение целостного набора признаков, измеренных в шкалах различных систем. Речь таким образом идет о сложном математическом многомерном анализе смешанных признаков. Обобщая многочисленные расовые признаки русских, автор статьи приходит к следующему умозаключению: "Первый и наиболее важный вывод, который здесь можно сделать, заключается в констатации значительного единства русских на всей рассматриваемой территории и невозможности выделить соответствующие региональные типы, четко ограниченные друг от друга".
В вопросе биологического единства нордической расы, в свете русской колонизации Севера, автор столь же однозначен: "Таким образом, существование северного подтипа русских может считаться отражением определенной антропологической общности населения севера и северо-востока Европы, предшествовавшего времени русской колонизации этой территории и послужившего одним из компонентов для формирования современных русских на этой территории".
Данные глобальные выводы вновь и вновь подтверждаются результатами частных биохимических исследований, как, например, в статье 0. В. Ирисовой "Полиморфизм эритроцитарной кислой фосфатазы в различных группах населения Советского Союза" (Вопросы антропологии. Вып. 53,1976): "Среди населения Европы отмечается относительно широкая дисперсия по трем аллелям: ph", phb, phc. В целом редко встречающийся ген phc служит характерным признаком, маркирующим европеоидные популяции (0,030-0,070). Аллель ph" варьирует у европейского населения в пределах 0,268-0,402. У негроидных популяций частота pha изменяется в более узких рамках от 0,16 до 0,25. Монголоиды, как и следовало ожидать, имеют самый широкий спектр изменчивости аллелей ph" и phb и, тем не менее, у них практически отсутствует ген ph°".
Как видим, миф о генетических последствиях монголо-татарского ига в России вновь терпит полный крах, потому что у русских есть ген ph°, а у монголов его практически нет. Евразийство - это очередная уловка для генетически неграмотных людей. Евразийство - это следствие не хаоса крови, а хаоса идей, искусно нагнетаемого с целью заглушения генетически обусловленного архетипа белой расы.
Рассуждая далее, автор данной работы вновь и вновь подтверждает базовый постулат нордической идеи: "Высокая термостабильность фенотипов В и АВ свидетельствует об адаптивной значимости этих вариантов кислой фосфатазы в экстремальных условиях жаркого тропического климата". Это означает, что 3 и 4 группы крови своими параметрами термостабильности наглядно свидетельствуют о своем ненордическом происхождении. Нордическая раса характеризуется, как мы помним, высоким процентом именно 1-й и 2-й групп крови. Вдали от ядра белой расы, в жарких районах Средиземноморья, и произошло подмешивание 3-й и 4-й групп крови. У этих метисов жизнеспособность ниже, чем у чистых представителей нордической расы, что, как мы отмечали выше, засвидетельствовано статистическими данными станций переливания крови.
В соответствии с вышесказанным, мы не рекомендуем к употреблению гастрономические и косметические продукты других рас. Целебными грязями с берегов Мертвого моря, которые рекламирует наше телевидение, следует мазаться семитам, а не русским красавицам.
То же самое касается и ароматических средств. В Вест-Индии во времена ее колонизации существовала поговорка: "Господь Бог любит своего негра и узнает его по запаху". Путешественники древности отмечали, что от китайцев пахнет мускусом, а римский историк IV века Аммиан Марцеллин утверждал, что от евреев пахнет чесноком.
Как видно, нет такого места на теле человека, которое бы не свидетельствовало о врожденных расовых различиях. Из статьи Т. А. Абражевича, В. А. Спицына "Генетический диморфизм ушной серы у якутов и населения прибалтийских республик" (Вопросы антропологии. Вып. 70,1983) следует, что частота гена d в ушной сере у северных европеоидов равна 0,1815, у немцев - 0,176, у якутов - 0,8939, у китайцев - 0,979, а у негров - 0,069.
Аналогичная картина наблюдается и с геном w, ибо у китайцев его частота равна 0,021, у немцев - 0,824, а у негров - 0, 931. Так что, подставлять свои уши под сплетни других рас тоже вредно и не гигиенично. Слушать нужно только своих.
Кроме того, генетически обусловленные биохимические различия рас влияют также на восприятие окружающего мира, на выработку эстетического вкуса, на философские идеи и религиозные предпочтения.
А. С. Вагина в своей прекрасной статье "Об особенностях отношения к цвету некоторых этнических групп" (Вопросы антропологии. Вып. 84, 1990) пишет: "Любая популяция, любая этнокультурная общность говорят на своем цветовом языке с определенным набором "звуков" и их сочетаний. Мы воспринимаем этот язык не только в отточенных цветовых символах, но улавливаем его по общему цветовому "полю" народной материальной культуры. Большая часть цвета в традиционной культуре очевидна. Цвет костюма также тесно связан с внешним обликом человека, так как он обычно согласует цвет своего платья с цветом кожи, волос и глаз. У людей северной расы предпочтение черного, синего, а также голубого (холодных цветов коротковолновой части спектра) не случайно, ибо они значительно уменьшают и облегчают плотность объема".
Здесь все вновь точно так же объясняется с биологической точки зрения, ибо И. С. Афанасьева в статье "Современные представления о пигментации человека" (Вопросы антропологии. Вып. 82, 1989) дает обобщение международной научной информации, из которой явствует, что глаза европеоидов и негроидов различаются по структуре, а голубые глаза отличаются особым эффектом Тиндала. Нордический человек в прямом смысле этого слова видит мир по-другому.
Еще Иммануил Кант в своей "Аналитике прекрасного" отметил, что "прекрасное познается без посредства понятия". Фриц Ленц указывал: "Уже будучи детьми, мы отличаем красивых людей от безобразных, - задолго до того, как приобретаем опыт таких вещей или с помощью сравнения образуем эстетическое чувство. Такие различения мы делаем инстинктивно, поскольку носим образ нашей расы в самих себе".
Современные исследования в области биологии эстетики доказали, что каждая раса имеет свои, генетически обусловленные представления о Хаосе и Порядке. Конрад Лоренц назвал это "врожденными моделями", а Иренеус Эйбл-Эйбесфельдт в книге "Биологические основы эстетики" пишет: "Стиль _ это способ кодировать сообщаемую информацию в художественной форме". Именно поэтому произведения искусства различных рас отличаются по стилю, ибо стиль на биологическом уровне выполняет функцию определения "свой-чужой". Произведения современного массового искусства специально моделируются на основе отсутствия этого биопароля. Стиль в сжатой кодифицированной форме выражает генетический опыт расы. И. Эйбл-Эйбесфельдт делает на этой основе правомерный вывод: "Внушаемость, готовность к усвоению взглядов и к принятию групповых ценностей присущи человеку в очень высокой степени. Это они вымостили путь к расовому отбору".
Кроме того, он приводит любопытные данные лабораторных опытов. Оказалось, что в комнатах, окрашенных в красно-оранжевые тона, испытуемые оценивали температуру на 3-4 °С выше, чем в комнатах сине-зеленых тонов. "Теплые" тона возбуждают симпатическую нервную систему, отчего учащается пульс и повышается кровяное давление. "Спокойные" тона, которые неспроста называют еще и холодными, принадлежат к коротковолновой части спектра.
Таким образом, люди нордической расы предпочитают холодные тона, которые соответствуют их системе кровоснабжения, то есть их хладнокровию, вновь не в переносном, а именно в прямом смысле. Голубые глаза - это индикатор оптимальных биоэнергетических процессов в организме северного человека. То же самое справедливо и в отношении музыки и танца, ибо их ритмика полностью опирается на дробную структуру расового архетипа. Белая раса создала симфоническую гармоническую музыку, а черная раса изобрела джаз и рэп с их нагромождением синкоп. Характерно в этом отношении русское ладовое песнопение, где лад выступает как генетическая единица гармонии, что вновь подтверждает нордические истоки русского народного искусства.
Ганс Ф. К. Гюнтер в своей великолепной книге "Раса и стиль" (1927) писал: "Нет драматургии на семитских языках, а музыку арабы заимствовали у персов".
Позднее Генрих Цоллингер в работе "Биологические аспекты цветовой лексики" утверждал: "В лингвистике цветовых понятий существует расовая гипотеза, согласно которой люди с разным цветом кожи могут видеть, а потому и называть цвета по-разному, потому что различиями в пигментации затронут сам глаз". Ганс Ф. К. Гюнтер, перефразируя слова Гете, отмечал, что нордическая раса создана для того, чтобы всматриваться, а восточная, чтобы созерцать. К цвету, а следовательно, и к структуре глаз это имеет самое непосредственное отношение.
Различия касаются также восприятия времени и пластических форм, что лучше всего видно в системах хронологического летоисчисления различных рас и в преобладании тех или иных геометрических форм в их жилище, на что указывал еще Освальд Шпенглер. Современные исследователи Фредерик Тернер и Эрнст Пеппель обнаружили наличие расовых признаков в организации стихотворных форм и ритмов, которые призваны работать на частоте, синхронной с тактовой частотой работы мозга. Тактовые частоты интеллектуальных биопроцессоров у различных рас также сильно отличаются, соответственно этому организация процессов обучения и работа с виртуальной информацией должны быть пересмотрены в духе расовой теории.
Совершенно неверно поэтому цыганский табор с его песнями и плясками считать символом русской культуры. Точно так же "Квадрат" Казимира Малевича - дорожный знак, а не картина, по меткому определению Ильи Сергеевича Глазунова, - явно восходит к истокам не русского эстетического мировосприятия. Известный немецкий расовый теоретик Пауль Шульце-Наумбург в своей прекрасной книге "Искусство и раса" (1935) основную мысль выразил простыми и доходчивыми словами: "Какова сама раса, таково и ее искусство".
Современная наука - антропоэстетика - занимается именно изучением расовых и этнических канонов человеческой красоты. Насаждение инорасовых антропоэстетических канонов средствами телевидения и массовой поп-культуры ничего, кроме вреда, дать не может.
Лювиг Фердинанд Клаусе в книге "Нордическая душа" (1939) писал: "Если человек отказывается от своего врожденного стиля, он не обретает другой, а искажает собственный. Душа, которая живет не в согласии со своими законами, ведет двойную жизнь: она оказывается между своим собственным и чужим законами и в тайне чувствует себя неполноценной и перед тем, и перед другим. Если все время воспринимать чужое, это приведет к разрушению собственной сущности".
Иосиф Егорович Деникер еще сто лет назад писал: "У некоторых народностей мышцы лица выполняют такие движения, подражать которым было бы весьма трудно для чужеземцев, как например выдвигание вперед одной только верхней губы, выполняемое малайцами с изяществом и легкостью, которые сделали бы честь любому шимпанзе".
Современные конкурсы красоты для разноплеменных девиц производят впечатление легализованного бандитского невольничьего базара, организованного по принципу "генетического общака", где в качестве жюри всегда выступают метисы. Это осквернение расы, ибо раса - это высшая ценность, которой мы обладаем.
Ганс Ф. К. Гюнтер так описывал сакральные глубины северного человека, обусловленные его расово-биологической уникальностью: "Если поведение восточных людей характеризуется наклонностью к позе, то поведение людей нордической расы отличается сдержанностью, которая людьми не-нордической расы воспринимается как надменность. Нордический человек не станет проповедником. Его вера слишком уединенна, сдержанна, молчалива и проникнута благоговением. Проповеднику свойственно влезать в чужую душу, собирать вокруг себя учеников, переднеазиатский "пафос общины" - противоположность нордическому "пафосу дистанции", воспетому Ницше. Проповедь среди "неверующих", идея "мировой религии", "идите и научите все народы" - все это проявления переднеазиатской души, чуждые нордическому духу".
Подобные же мысли читаем у Лювига Фердинанда Клаусса: "Если нордический человек религиозен, то он религаозен в своем стиле: он не любит раздеваться перед толпой и не ходит молиться на базар".
Итак, весь духовный мир, все особенности психологии людей нордической расы обусловливаются исключительно и единственно их биохимической уникальностью, передающейся генетическим путем из поколения в поколение.
После официальной расологии Третьего Рейха советскую периодику, вроде журналов "Вопросы антропологии", "Советская этнография", "Генетика" и множество других, можно читать как дополнительную литературу, нужно лишь сменить критерий оценки с интернационального на нордический, и тогда все само собою встанет на свои места.
Созданная опровергать классическую расовую теорию, советская антропология, сама того не ведая, подхватила знамя у поверженной немецкой школы и двинулась в том же победном направлении, имя которому - биологический детерминизм.
Немецкие расологи были в основной своей массе добропорядочными католиками или протестантами и потому понимали расу как единство переживания, общность стиля, единение в судьбе. А один из ведущих советских антропологов В. П. Алексеев определил, что "родство - это биохимическое понятие". Столь резкая постановка проблемы шокировала бы даже главного идеолога Третьего Рейха Альфреда Розенберга.
Теперь можно смело утверждать, что дело немецкой расовой теории не пропало даром. Великая идея нордической расы все сильнее дает себя знать в современной России.
Наконец, справедливости ради нужно также отметить, что немецкие расовые теоретики никогда не стеснялись ссылаться на своих русских - советских коллег, поэтому автор данного эссе просто продолжает добрую традицию академической вежливости, с русской стороны отвечая любезностью на любезность, ведь в "странах современной демократии" сделано то, что не удалось в свое время сделать Гитлеру, а именно: добросовестно цитировать русских расовых теоретиков. Если мы возьмем центральную работу Фрица Ленца "Учение о человеческой наследственности" (1932), то обнаружим 34 ссылки на советские научные труды при общем числе цитируемых авторов - 22. Книга считалась канонической в вопросах расовой гигиены, но проблем у автора со стороны "компетентных органов" из-за увлечения наукой идеологических противников не возникало.
Никаких проблем не возникло и после 1945 года, на сей раз со стороны оккупационных властей. Ни один крупный расовый теоретик Третьего Рейха не проходил ни по одному политическому процессу о преступлениях нацизма. Мало того, все они сохранили свои кафедры в университетах, где и преподавали до конца жизни. Достоверность этих данных можно почерпнуть из книг известных писателей-антифашистов, специализировавшихся на теме расовой теории Третьего Рейха - Роберта Н. Проктора и Стефана Кюля.
Нордическая идея чиста, и это признано Нюрнбергским процессом. Не обвиняет же никто советскую космонавтику в связи со сталинскими репрессиями или гонкой вооружений. А. Д. Сахаров до того, как стать демократом, придумал атомную бомбу, и ничего, в его честь в Израиле назван парк. Кстати, в том же Израиле в Музее памяти жертв холокоста открыта памятная стела немецкому расовому теоретику Людвигу Фердинанду Клауссу "за спасение евреев с риском для собственной жизни".
В переведенной на многие языки мира книге "Расовые элементы европейской истории", которую Ганс Ф. К. Гюнтер написал уже после войны, есть глава "Нордический идеал". Это расово-политическое завещание одного из признанных лидеров нордического движения, которым хочется закончить эссе: "Вопрос не в том, в какой мере нордическими являемся мы, ныне живущие люди, а в том, хватит ли у нас храбрости, чтобы подготовить мир для будущих поколений, очистив себя в расовом и евгеническом отношении. .Денордизация индоевропейских народов всегда длится столетиями; воля людей с нордическим мышлением должна перекинуть мост через столетия. Когда речь идет об отборе, нужно учитывать множество поколений, и современные люди с нордическим мышлением могут ожидать на протяжении своей жизни лишь одну награду за свои труды: сознание собственной смелости. Расовая теория и исследования в области наследственности придают силу новой аристократии и молодежи, которая, стремясь к высоким целям, как Фауст, следует призывам из сфер, выходящих за пределы индивидуальной жизни.
Поскольку это движение не стремится к выгодам, оно всегда будет движением меньшинства. Но дух любой эпохи всегда формируется только меньшинством, в том числе и дух той эпохи масс, в которую мы живем".
Источник: сборник "Расовый смысл русской идеи", выпуск 2. Белые Альвы, Москва, 2002.
Благодарю официальный сайт Союза Славянских Общин Славянской Родной Веры за предоставление материала.
Предисловие Владимира Борисовича Авдеева к сборнику оригинальных работ русских классиков «Русская расовая теория до 1917 года».
Издательство «ФЭРИ-В», Москва, 2002. Подписано в печать 30.09.2002г., Тираж 3000 экз.
Источник: газета "За Русское Дело", №№ 102-104 за 2003 год.
Выход фундаментального сборника "Русская расовая теория до 1917 г." является выдающимся событием издательской и интеллектуальной жизни России начала XXI столетия.
Мало кто знает, что расовая теория в России была отнюдь не маргинальным явлением, она пропагандировалась с кафедр крупнейших учебных заведений учеными первой величины. В сборник вошли работы основателей отечественной антропологии, психофизиологии и неврологии - труды А. П. Богданова, В. А. Мошкова, И. А. Сикорского, И. И. Мечникова, С. С. Корсакова и др. Издание затрагивает проблемы естественных различий между народами, которые в значительной мере предопределяют также и многие социально-политические процессы в современном мире. Сборник снабжен предисловием известного отечественного расолога Владимира Борисовича Авдеева.
«Русская расовая теория до 1917 года»
Проект издания вышеозначенной книги носит поистине уникальный характер, не имеющий аналогов в современной научной и публицистической литературе, так или иначе затрагивающей проблемы естественных различий между народами, которые в значительной мере предопределяют также и многие социально-политические процессы в современном мире. Последнее обстоятельство делает данный проект чрезвычайно актуальным.
В самом деле, сегодняшнее поручение Президента, связанное с подготовкой пакета законов по регулированию внутренней и внешней миграции в РФ, требует выяснения причин часто возникающей некомплиментарности между этносами - представителями коренного населения и мигрантами. Такого же рода проблемы возникают и в государственном строительстве России, которое сталкивается с противодействием гражданскому единству со стороны этно-сепаратистских группировок.
Сборник статей русских дореволюционных авторов вскрывает доселе неизвестный научной общественности пласт исследований и методологических подходов. В этом смысле он является также и памятником русской интеллектуальной культуры, отражением величия достижений отечественной научной культуры, которое по своей мощи сравнимо с достижением ведущих европейских мыслителей, на которых принято ссылаться в серьезной научной литературе. Отрадно, что с осуществлением проекта издания книги, русские авторы по праву войдут в состав признанных научных авторитетов в данной области.
К этому также следует добавить, что во времена Российской Империи государственная власть с большим вниманием относилась к антропологическим и расовым исследованиям, понимая важность проникновения в тайну природы человека. Увы, в последующие годы наработанный опыт, во многом предопределявший нашу государственную стабильность, был утрачен. Его восстановление в современных условиях становится важнейшей задачей.
В моей собственной научной и преподавательской практике ссылки на работы, вошедшие в сборник, будут важным подспорьем и позволят продолжить целый ряд направлений исследовательской деятельности, отчасти обозначенных авторами дважды переизданного сборника «Расовый смысл русской идеи». Данная книга также вызвала большой интерес в научном мире и среди заинтересованного данной темой широкого круга читателей. Я горжусь, что совместно с В. Б. Авдеевым участвовал в подготовке и редактировании данной книги. Думаю, что «Русская расовая теория до 1917 года» станет органичным продолжением лишь обозначенных на сегодняшний день направлений научных разработок, а в дальнейшем - важным методологическим подспорьем.
Следует особо отметить, что предполагаемое издание вовсе не является скучным академическим справочником. Русские ученые умели писать емко, образно, на замечательном русском языке. Поэтому издание, бесспорно, привлечет к себе внимание не только узких специалистов, но будет также интересным для всех, кто интересуется русской историей, русской мыслью, русской культурой. Тому же будет способствовать большое количество иллюстративного материала.
Возможные сомнения по поводу расовой тематики, часто возникающие у неспециалистов, связано с неправомочным отождествлением расовой науки с расовой нетерпимостью. По поводу планируемой к изданию книги можно сказать, что ее материал полностью соответствует законодательным ограничениям в данной сфере и даже способствует лучшему пониманию различий между людьми, забвение которых как раз зачастую и приводит к кровавым конфликтам.
САВЕЛЬЕВ Андрей Николаевич,
доктор политических наук, профессор МГУ,
советник председателя Комитета Государственной Думы
по международным делам.
«Шагайте через нас! Вперед! Прибавьте шагу! Дай Бог вам
добрый путь!
Спешите! Дорог час. Отчизны, милой нам, ко счастию, ко благу, Шагайте через
нас!»
Б. Г. Бенедиктов «К новому поколению»
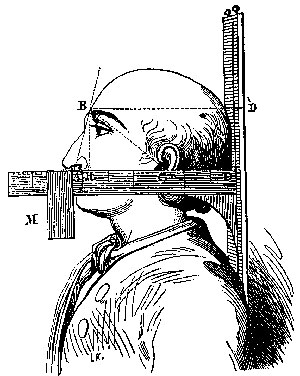 «Русская
расовая теория» - уже в одном названии, кажется, заключен парадокс, граничащий с
научной фантастикой. Не только в массовом общественном сознании, но даже в среде
профессиональных философов, историков, биологов и психологов само понятие
расовой теории стойко ассоциируется с европейской и американской культурами
19-20 веков, и никак не проецируется на историю русской интеллектуальной жизни,
ошибочно отождествляемую с бесплотными материями и абстрактными идеалами.
Поколения «красных профессоров» сотворили свое черное дело, создав сегодня в
воображении даже весьма образованных людей представление о добольшевистской
России как о некоем заповеднике благодушия, мечтательности и лени. Чеховская
«чайка» да блоковская «незнакомка» в виде сверхчувственных мутантов призваны до
сих пор парить в воображаемом мире под общим названием «Россия, которую мы
потеряли».
«Русская
расовая теория» - уже в одном названии, кажется, заключен парадокс, граничащий с
научной фантастикой. Не только в массовом общественном сознании, но даже в среде
профессиональных философов, историков, биологов и психологов само понятие
расовой теории стойко ассоциируется с европейской и американской культурами
19-20 веков, и никак не проецируется на историю русской интеллектуальной жизни,
ошибочно отождествляемую с бесплотными материями и абстрактными идеалами.
Поколения «красных профессоров» сотворили свое черное дело, создав сегодня в
воображении даже весьма образованных людей представление о добольшевистской
России как о некоем заповеднике благодушия, мечтательности и лени. Чеховская
«чайка» да блоковская «незнакомка» в виде сверхчувственных мутантов призваны до
сих пор парить в воображаемом мире под общим названием «Россия, которую мы
потеряли».
Но логика безошибочно подсказывает, что если бы люди, сумевшие создать самую большую в мировой истории империю, действительно руководствовались в своих действиях интеллигентскими принципами и идеалами, почерпнутыми из модной салонной литературы, то они не сумели бы подчинить себе даже пядь земли. Сталкиваясь с десятками племен различных рас и самых экзотических вероисповеданий, находящихся не только на разных ступенях социально-политической, но и биологической эволюции, русские творцы государственности неминуемо должны были иметь стройное и хорошо аргументированное учение, позволившее им собрать полиэтнический конгломерат в единое устойчивое целое, имя которому - Российская Империя. Усмиряя строптивых, пестуя усердных, воодушевляя безропотных, русский завоеватель, купец и чиновник являли собой образец дипломатичности, договариваясь одновременно с католиками, иудеями, буддистами, мусульманами и самоедами-язычниками, всюду неся славу и волю Великого Русского Царя. Одних только хитрости или предприимчивости было явно недостаточно, так же как и одних благих помыслов, ибо нужно было разбираться в антропологии и психологии новых подданных Его Императорского Величества, знать сильные и слабые стороны их национальных характеров. Играя, как на диковинном музыкальном инструменте, на душевных струнах туземцев, о существовании которых еще вчера и не слыхивал, русский «государев человек» умел добиться нужной гармонии в единой симфонии планомерного движения белой расы на юг и восток. Для такого небывалого в мировой истории явления недостаточно было одних лишь гениальных интуиций, нужна была собственная расовая теория, четко и доказательно определяющая место русских как расово-биологической общности среди подчиненных народов.
О расовой теории в дореволюционной России Вы не найдете сегодня никаких упоминаний, никаких серьезных работ, никаких ссылок на первоисточники. Всюду царит заговор академического молчания. Русская история, и особенно аспект сильных и позитивных сторон духовной жизни нашего народа сегодня, как и во времена засилья коммунистической профессуры, является как бы «частной собственностью», право на пользование которой присвоено группой ангажированных лиц.
Во имя высших интересов русского народа в данной работе мы попытаемся сорвать завесу молчания и показать, что русская расовая теория - это не вымысел, но забытый гигантский пласт мудрости и опыта нашего народа, запечатленный в академических трудах гениальных русских ученых.
Под расовой теорией сегодня принято понимать единую философскую систему, находящуюся на стыке гуманитарных и естественных наук, посредством которой все социальные, культурные, экономические и политические явления человеческой истории объясняются действием наследственных расовых различий народов, данную историю творящих. Все обилие фактов, накопленных антропологией, биологией, генетикой, психологией и смежными дисциплинами о врожденных расовых различиях народов, проецируется на сферу их духовной жизни. В основе каждого исторического явления расовая теория стремится выделить биологическую первопричину, его вызвавшую, то есть наследственные различия представителей различных рас. В свою очередь различия биологического строения ведут к различиям в поведении, а также к различиям в оценке явлений. Таким образом, расовая теория - это наука, изучающая биологические факторы мировой истории.
В основе расовой теории лежит понятие расы, которое было привнесено в европейскую науку в 1684 году французским этнографом и путешественником Франсуа Бернье. На протяжении двух столетий не было четкого и однозначного определения этого термина, ибо ученые смешивали сугубо биологические параметры с лингвистическими и этнографическими, из-за чего постоянно возникала путаница, а народы, имеющие одинаковый внешний облик и психические характеристики, записывались в различные расы на основе данных этимологии или выводов сравнительной лингвистики. Нередко народы, не имеющие между собой ничего общего в плане физического строения, бывали отнесены к одной расе только на основе языковой общности. Эти противоречия и неточности в систематизации дорого обошлись адептам расовой теории, ибо скомпрометировали всю науку в целом. В результате отождествления «народа» и «расы» возникли совершенно абсурдные словосочетания , такие как «тевтонская раса», «германская раса», «славянская раса».
Положение исправил русский расолог французского происхождения, родившийся в Астрахани, Иосиф Егорович Деникер (1852-1918), когда в 1900 году издал книгу «Человеческие расы» на французском и русском языках. Именно в этой научной монографии, которая до сих пор считается эталоном систематизации естественнонаучной информации, впервые в антропологии были сформулированы основные принципы оценки различий между человеческими расами. В ней он писал: «...что касается классификации рас, то для нее принимаются в расчет одни только физические признаки. Путем антропологического анализа каждой из этнических групп мы попытаемся определить расы, входящие в ее состав. Затем, сравнивая расы друг с другом, будем соединять расы, обладающие наибольшим числом сходных признаков, и отделять их от рас, обнаруживающих наибольшие с ними различия».
Под расой Деникер четко понимал «соматологическую единицу», таким образом со всякой двусмысленностью в антропологии было покончено. Книга по сути посвящена разделению понятий этнографии и антропологии, которые автором определяются как дисциплины различного происхождения: первая - социологического, вторая - биологического. Он писал: «Несколько лет тому назад я предложил классификацию человеческих рас, основанную единственно лишь на физических признаках (цвете кожи, качестве волос, росте, форме головы, носа и т. д.)». По сути Деникер первым встал на позиции жесткого и последовательного биологического детерминизма в расовой философии. По его мнению, окружающая среда бессильна перед расовыми признаками. Он утверждал: «Расовые признаки сохраняются с замечательным упорством, невзирая на смешение рас и на изменения, обусловленные цивилизацией, утратой прежнего языка и т. д. Меняется лишь соотношение, в котором та или иная раса входит в состав данной этнической группы».
С тех пор все расовые классификации строятся по принципу классификации И. Е. Деникера. Кроме того, ему принадлежит и другой значительный вклад в развитие науки. Пионеры естествознания той эпохи были в меньшей степени политически ангажированными, чем сегодня, и не боялись высказывать свои мнения о культурной ценности того или иного индивида, народа, расы. Историки, лингвисты и археологи, проанализировав культурное наследие различных цивилизаций, первыми обратили внимание на то, что всегда и везде представители светло-пигментированных расовых типов являлись культуросозидающими. У истоков образования почти всех мировых культур стояли преимущественно голубоглазые блондины с длинной формой черепа или близкие к ним расовые типы. Также и в плане социальной организации общества высшие классы всегда и везде характеризовались более высоким процентом людей данного физического типа по сравнению с низшими классами. Этот биологический закон социального распределения расовых типов без труда проявляется при изучении фольклора, обычаев, законодательной практики и изобразительного искусства различных народов. Светлые расовые типы во всех древнейших обществах рассматривались как более благородные и, как следствие, более ценные по сравнению с темными. Представители гуманитарных наук в 19 веке первыми принялись в свете новых открытий обсуждать так называемую «арийскую проблему». Однако именно расологи внесли окончательную ясность. Обобщая накопленный опыт предыдущих исследователей, Деникер поставил точку в споре об арийцах, введя новый термин, в принципе не имеющий ничего общего с романтическими концепциями лингвистов: «Длинноголовую, очень рослую светловолосую расу можно назвать нордической, так как ее представители сгруппированы преимущественно на севере Европы. Главные ее признаки: рост очень высокий: 1,73 метра в среднем; волосы белокурые, волнистые; глаза светлые, обыкновенно голубые; голова продолговатая (головной указатель 76 - 79); кожа розовато-белая; лицо удлиненное, нос - выдающийся прямой».
Таким образом терминологическая путаница в расовой теории закончилась, термин «арийцы» плавно отошел в сферу культурологии, лингвистики и религиоведения: «Не может быть и речи об арийской расе, а позволительно говорить только о семье арийских языков и, пожалуй, о первобытной арийской цивилизации».
Термин «нордический», обозначающий конкретный расовый тип, прочно закрепился как в научных классификациях, так и в политической пропаганде. Идеал красивого героя с пронзительным волевым взглядом, канонизированный в Третьем Рейхе, был впервые научно обоснован русским расологом французского происхождения, уроженцем Астрахани. Причем даже ведущие специалисты Германии в этой области добросовестно упоминают «русского расолога Деникера», который первым ввел в употребление термин «нордический».
Расовая теория поначалу возникла благодаря усилиям лингвистов, историков, этнографов и философов задолго до фундаментальных открытий в области антропологии, биологии и психологии. Это действительно была «теория», еще весьма слабо подтвержденная данными естественных наук, но общее направление рассуждений расологов было, безусловно, верным.
Не абстрактные социально-экономические законы развития общества являются движущей силой истории, не эволюция, и тем более не культура. История создается в процессе борьбы за существование различных расовых типов, формирующих узнаваемые психологические портреты народов. С биологической точки зрения каждый народ - это соединение нескольких рас, и та раса, которая в нем доминирует, создает физический и духовный портрет данного народа. Мало того, именно она устанавливает свойственный ей тип государственности и экономический уклад, вырабатывает религиозные, эстетические и этические каноны общества. Едва расовый баланс под воздействием внешних или внутренних причин изменяется в сторону другой расы, как это тотчас проявляется во всех областях общественно-политической жизни народа. История - это отражение процесса борьбы различных расовых биотипов.
Именно так впервые изобразили историю основоположники расовой теории француз Жозеф Артюр де Гобино (1816-1882) и немец Густав Фридрих Клемм (1802-1867). Первый обессмертил свое имя в науке фундаментальным сочинением с характерным названием «Опыт о неравенстве человеческих рас» (1853-1855), второй - многотомным трудом «Общая культурная история человечества» (1842-1852), где развил учение об «активных» и «пассивных» расах. Их имена сегодня известны, причем не только в среде специалистов. А вот имя создателя русской расовой теории, о котором пойдет речь ниже, забыто, что, к сожалению, не является редкостью в истории науки.
Степан Васильевич Ешевский (1829-1865), родом из семьи помещиков Костромской губернии, обучался в Казанском и Московском Университетах. Отличаясь прилежанием в науках, обладая широким кругозором, он увлекся изучением истории, этнографии, археологии и в студенческие годы примкнул к кружку так называемых «западников», возглавляемых профессором Петром Николаевичем Кудрявцевым (1816-1858), что и предопределило систему оценок и приоритетов в его собственной научной деятельности. Будучи сугубо европейским человеком по образованию и менталитету, Ешевский, столкнувшись в Казани с азиатскими формами быта, очень рано начал задумываться о коренных различиях в психической организации тех или иных расовых типов и решил обосновать биологические предпосылки возникновения культуры.
С блеском закончив Московский Университет в 1850 году, будущий корифей расологии поначалу устроился преподавателем истории. Первые лекции и публикации сразу же сделали его популярным, а наглядность, доказательность и оригинальность изложения снискали ему массу поклонников. В 1859 году Ешевский направился в Европу для ознакомления с передовыми открытиями в интересовавших его областях науки. Объехав большую часть Германии, Италию, Швейцарию и Францию, он обрел прочные контакты с мировыми знаменитостями, среди которых был историк и лингвист Густав Фридрих Клемм.
Объединение научных взглядов русского и немецкого ученых на основе новейших по тем временам открытий в области археологии, этнографии и лингвистики оказалось весьма продуктивным, и по возвращении из заграницы С. В. Ешевский писал в одном из своих эссе: «Клемм говорит, что много обязан Русским в разъяснении многих, не совсем ясных для него вопросов германской древности, которые разрешились только путем сравнения». Немецкое влияние также не прошло для русского ученого бесследно. Возвратившись в Россию он начал готовить большой курс по всемирной истории на расовой основе в Московском Государственном Университете, где был избран на должность профессора.
Вводная часть курса была оформлена в виде отдельной работы под названием «О значении рас в истории», которая с точки зрения современной науки может считаться первым отечественным классическим произведением по расовой теории. В изящной философской преамбуле русский ученый рассматривает необходимость системного анализа истории, ибо каждый правящий режим в ту или иную эпоху в отдельно взятых странах стремился, по мысли Ешевского, переписать историю заново, чтобы через «приватизацию» прошлого скорректировать направление вектора своих идеологических притязаний на будущее. Таким образом настраивая читателя на постижение истории, он подчеркивает: «Это вопрос естественноисторический, антропологический; но прежде и важнее всего вопрос исторический - вопрос о человеческих породах, о расах».
По существу Ешевский первым обосновал ставшее впоследствии базовым положение философии истории на расовой основе: подобное постигается подобным. История конкретного народа может быть оценена объективно только человеком со сходной расово-биологической конституцией. В жилах исследуемого народа должна течь та же или близкая к ней кровь, что и в жилах историка, об этом народе пишущего. Данное умозаключение - не вульгарно-биологический подход, а своего рода метафизика естествознания, ибо Ешевский указывал даже на возможность «связи между историей болезней и историей политического и нравственного развития народов».
Исследуя школу расологов-полигенистов, отрицавших в отличие от моногенистов видовое единство человеческого рода, к числу которых принадлежали Мортон, Нотт, Глиддон, Агассис, он одобрительно пишет: «В Северной Америке во имя науки возможна необходимость делить род человеческий на породы, способные и неспособные к высшему развитию и цивилизации, на породы, призванные к жизни, и породы, обреченные на медленное, естественное вымирание; но была еще возможность существу высшей породы, царю если не всей природы, но по крайней мере животного царства, представителю белой расы, способной к бесконечному совершенствованию, с полным спокойствием совести употреблять, как машину, как рабочую силу, негра, в котором, по счастию, еще сохранилось посредствующее звено между собственно человеком и высшею породой обезьян. Там была возможность, уничтожая глубокий рубеж между человеком и животным, провести зато еще резче границу между человеком высшей расы и человеком низшей организации - существом еще переходным от мира собственно животного к миру несомненно человеческому в высшем его значении».
Вдумайтесь, уважаемый читатель, ведь эти речи звучали из уст профессора с кафедры истории Московского государственного Университета еще в середине XIX века. И студенты, как завороженные слушавшие его, указывали, что устами Ешевского вещала сама истина, так силен был психологический эффект от его новаторских лекций.
Далее, по мере изложения, ученый углубляется в вопросы сравнительного языкознания, историю права, мифологию, исследует орудия первобытной материальной культуры, привлекая, как обычно, огромное количество авторитетнейших свидетельств зарубежных авторов, и делает следующий многозначительный вывод: «Разнообразные и разносторонние исследования показали, что человечество распадается на отдельные группы, отличающиеся одна от другой не одними внешними признаками, которые, разумеется, прежде всего и даже издавна бросались в глаза каждому, но и некоторыми особенностями в своей нравственной, духовной природе, особенностями характера, склада ума».
Далее он подробно излагает современные ему классификации рас по группам различных признаков, таких ученых, как Блюменбах, Причард, Вирей, отмечая при этом, как образованный историк: «...мы не только замечаем более или менее резкое, бросающееся в глаза отличие физического типа у различных племен. Что племенной тип и племенной характер, каким бы путем они ни сложились, ни образовались, хранятся с замечательной упорностью - в этом нет ни малейшего сомнения, и история дает на это точно такой же утвердительный ответ, как и естествознание. Не говоря уже о таких резких противоположностях, какие представляют между собой негр и европеец, житель Китая и краснокожий туземец Северной Америки, финн и малаец, различие племенных типов довольно резко бросается в глаза даже между племенами, принадлежащими к одной группе, близкими одно к другому и по своей натуре, и по местности».
Исходя из этого постулата, ставшего позднее классическим в расовой теории, Ешевский отмечает: «С особенной настойчивостью указывают полгенисты на неизменяемость племенного типа от влияния внешней природы. Из менение одних условий среды не переработает негра в человека белой расы и, наоборот, не сделает из европейца негра. Нужно ли указывать на еврейское племя, которое везде и всегда является со своими отличительными особенностями, не измененными тысячелетним его пребыванием среди чуждых ему народов, среди чуждого климата и под влиянием самых разнообразных условий внешней природы, под гнетом самых жестоких и неумолимых преследований. В евреях, встречающихся на лондонских улицах, с первого взгляда можно признать прямых потомков тех людей, изображение которых Вы только что рассматривали на гробнице египетского фараона, находящейся в Британском музее».
Далее Ешевский на основе богатого этнографического материала приходит к выводу о меньшей культурной, а, значит, следовательно, и расово-биологической ценности метисов: «Соединения лиц, принадлежащих к различным породам, отличаются сравнительно меньшей плодовитостью, чем браки между лицами одного племени. Так и решают полигенисты, признавая каждую человеческую породу за местный продукт, за неизменный, постоянный вид, и отказывая помесям в живучести. К этому, следовательно, сводится весь вопрос».
Вывод в работе столь же однозначен и не позволяет усомниться в принципиальности позиции автора. Ешевский смотрит на историю единственно сквозь призму расовой теории: «Перед глазами историка выяснилось разнообразие племенных типов с их характеристическими особенностями, с их устойчивостью и стремлением сохранить в главных чертах свою основную физиономию. Многое в событиях человеческой истории объяснилось и объясняется особенностями народного типа, делающими тот или другой народ способным или неспособным в известное время осуществить известную задачу. Бесчисленное разнообразие племенных особенностей не должно скрывать от сознания высших представителей человечества внутреннего единства, царящего над этим разнообразием, придающего ему смысл и значение, и дело народов высшей цивилизации - быть руководителями племен, находящихся еще на низшей степени развития, к той общей всем им цели, к которой идет человечество в его всемирно-историческом развитии».
Таким образом, мы видим, что в данной работе С. В. Ешевским в ясной и конкретной форме впервые обозначены все базовые постулаты, характерные для классической расовой теории.
Следующим крупнейшим отечественным ученым, внесшим большой вклад в создание русской расовой теории, является Анатолий Петрович Богданов (1834-1896). Именно с его именем связывают возникновение в России академической антропологической школы. Биография ее основоположника хорошо описана во множестве исследований по истории русского естествознания.
Мы же в свою очередь подчеркнем, что цель одного из главных сочинений А. П. Богданова «Антропологическая физиогномика» (М., 1878) состояла в том, чтобы дать теоретическое научное обоснование понятию «характерные русские черты лица».
Вначале автор очерчивает круг научных приоритетов: «Для современного антрополога-натуралиста изучение человека вообще не есть ближайшая задача, это дело анатома, физиолога, психолога и философа. Для него важны те вариации, которые в своей форме и в своем строении представляют племена, и важны постольку, поскольку они дают возможность различать и группировать эти племена, находить в них различия и сходства для возможности естественной классификации их, для воссоздания того родословного древа, по которому они развивались друг от друга под влиянием различных причин. Для своих целей антропологическая физиогномика ставит иногда на значительное место при своих заключениях такие признаки, кои не важны для физиономиста вообще, как например, цвет волос и глаз». Таким образом, по мнению основателя русской антропологической школы, антрополог определенного уровня квалификации прежде всего являлся расологом, все остальное - дело подмастерьев из числа «физиологов и философов».
Столь же категоричен Богданов и в вопросах выбора методологии: «Изучая мопса или пуделя, для зоолога интересны не случайные разновидности его, происшедшие от тех или других внешних условий, а то более постоянное сочетание, которое одно дает ему возможность составить себе представление о мопсе или пуделе, как представителях естественных групп или рас. Он знает, что в генетических теориях признаки не считаются, а взвешиваются по их значению; они классифицируются не по своей численности, но по своей ясности проявлений, по проявленности его. В данном случае зоологу в каждой особи важно то, что дает указание на влияние расы. То же мы имеем и в смешанных племенах человека; те же затруднения, те же цели встречаем мы при изучении их антропологических свойств».
Вторая часть монографии посвящена уже непосредственно антропологической физиогномике русского народа. А. П. Богданов утверждает: «Мы сплошь и рядом употребляем выражения: это чисто русская красота, это вылитый русак, типично русское лицо. Может быть, при приложении к частным случаям этих выражений и встретятся разногласия между наблюдателями, но, подмечая ряд подобных определений русской физиогномии, можно убедиться, что не нечто фантастическое, а реальное лежит в этом общем выражении русская физиогномия, русская красота. Это всего яснее выражается при отрицательных определениях, при встрече физиогномии тех из родственных племен, кои исторически сложились иначе, например, инородцы, и при сравнении их с русскими. В таких случаях, нет, это не русская физиогномия звучит решительнее, говорится с большим убеждением и большей убежденностью. В каждом из нас, в сфере нашего «бессознательного» существует довольно определенное понятие о русском типе, о русской физиогномии».
Как видите, классик русской антропологии за сто лет до возникновения антропоэстетики обосновал все ее основные положения. Уместно будет также процитировать в этой связи слова русского этнографа и историка Н. И. Надежина, сказанные им еще в 1837 году: «Физиогномия Российского народа, в основании Славянская, запечат лена естественным оттенком северной природы. Волосы русые, отчего в старину производили самое имя Руси». Далее методами исторической этнографии Богданов доказывает, что колонизация Сибири в принципе не могла оказать на русский народ пагубного влияния. Расовое смешение не могло иметь места прежде всего по причине разницы пропорций этносов, приходивших в соприкосновение, а также из-за кардинального различия в их биологической стратегии выживания. С началом колонизации огромные массы расово-однородного русского населения хлынули на территории, заселенные разноплеменными аборигенами, не имевшими ни расовой, ни политической консолидации. Численный перевес, скоординированность действий, агрессивность отличали действия русских. Вырезая местное мужское население и овладевая туземными женщинами, русские колонизаторы, прокатываясь волна за волной по бескрайним просторам Евразии, неизбежно увеличивали процент нордической крови в местном населении от поколения к поколению, в точном соответствии с законами Менделя. Административная и судебная системы в колонизируемых областях, сам характер хозяйственной деятельности, а также русская православная церковь многократно усиливали процесс русификации коренного населения, причем не столько в культурном отношении, сколько именно в антропологическом. Миф о «мирном освоении Сибири» - позднее изобретение коммунистической пропаганды. Перечень племен, исчезнувших с лица земли всего за двести-триста лет русской экспансии, весьма внушителен. Ни одно либерально-демократическое измышление не в силах изменить принципы борьбы за существование. Русские летописи, путевые заметки купцов, офицеров и просто «лихих людей» хранят свидетельства того, что отдельные племена добровольно отдавали молодых женщин плодородного возраста, едва завидев белых завоевателей.
Влияя на чужую кровь, русские колонизаторы при этом берегли свою, так как их женщины и дети оставались в метрополии. Несколько веков такого «интернационального миролюбия» смыли почти все остатки расово-этнической самобытности автохтонов с гигантских территорий. «Государев человек», купец и православный священник великолепно дополняли друга друга, координируя действия военных отрядов, экономических факторий и церкви, что позволяло держать под контролем местное разрозненное население. Кстати, завоз водки и табака к монголоидным племенам Сибири, для коих они губительны, был санкционирован именно православным духовенством. Использование коренного населения, более слабого телосложения, на рудниках, копях и во время навигации на северных реках также подрывало его расовые силы в противостоянии с русскими. Кроме того, исконная русская мораль была цементирующим фактором, делавшим стремительную ассимиляцию населения Сибири необратимой. А. П. Богданов продолжает: «Может быть, многие и женились на туземках и делались оседлыми, но большинство первобытных колонизаторов было не таково. Это был народ торговый, воинственный, промышленный, заботившийся зашибить копейку и затем устроить себя по- своему, сообразно созданному себе, собственному идеалу благополучия. А этот идеал у русского человека вовсе не таков, чтобы легко скрутить свою жизнь с какою-либо «поганью», как и теперь еще сплошь и рядом честит русский человек иноверца. Он будет с ним вести дела, будет с ним ласков и дружелюбен, войдет с ним в приязнь во всем, кроме того, чтобы породниться, чтобы ввести в свою семью инородческий элемент. На это простые русские люди и теперь еще крепки, и когда дело коснется до семьи, до укоренения своего дома, тут у него является своего рода аристократизм. Часто поселяне различных племен живут по соседству, но браки между ними редки, хотя романы часты, но романы односторонние: русских ловеласов с инородческими камеями, но не наоборот».
Наконец, Богданов делает и следующие весьма важные выводы относительно полоролевого участия в расовом смешении: «Женщина, сравнительно более высокого развития, более высокой расы, редко снизойдет до предста вителя расы, считаемой ею за ниже стоящую. Помеси европеек с неграми крайне редки и принадлежат к случайным, можно сказать эксцентричным явлениям, но негритянки и мулатки падки до европейцев».
Чем «ниже» раса, тем распущеннее ее женщины, что подтверждается и современными данными эволюционной теории пола и биологии поведения. Они просто воруют таким образом у «высших» рас гены высшего качества. Чувство собственного достоинства в сфере секса - это индикатор биологической самоценности. Русский этнограф граф А. С. Уваров в этой связи, основываясь на личных впечатлениях, например, крайне негативно высказывался о слабости нравов мордовских женщин.
Выдающаяся заслуга А. П. Богданова состоит также и в том, что он первым еще в 1867 году составил «Антропологический альбом русского народа», демонстрировавшийся на международных выставках. Таким образом, за много лет до современного бурного развития антропоэстетики русский ученый обосновал не только ее теоретическую часть, но и приступил к систематизации практического материала, именно с целью выявления «типично русских лиц», в связи с чем лингвистическому анализу на антропологической основе им были подвергнуты и русские народные песни. Русский расовый идеал красоты, как и следовало ожидать, не заставил себя долго искать. «Молодая, разумная, без белил лицо, белое, без румян щеки алые», - поется о русской девушке или: «Тонка, высока, тонешенька, белешенька». О русском молодце: «Приглядывали красны девицы за румяным молодцем. Русы кудри по плечам лежат, брови черные, что у соболя».
Подобным художественным описаниям из русского фольклора нет числа, что лишний раз говорит в пользу объективности выводимых определений «русской красоты». Следует отметить, что основоположник евгеники - англичанин Фрэнсис Гальтон, предложил создавать обобщенные карты красоты по географическим местностям только в 1883 году, а немецкая антропоэстетическая программа возникла лишь в 1926 году.
Еще раз подчеркнем, что ясность постановки задачи и доступность изложения в дореволюционных работах русских антропологов сочеталась с высокой гражданской позицией, чего мы почти не наблюдаем в современной науке, стыдливо прикрывающейся лозунгами усредненного гуманизма, произвольно конвертируемого. Дореволюционная русская антропологическая школа, так же как и иные европейские, была глубоко патриотичной и расово-ориентированной, при этом никак не в ущерб научной объективности.
Следующей крупнейшей величиной, перед которой русская наука находится в неоплатном долгу, является по общему признанию Дмитрий Николаевич Анучин (1843 -1923).
Уроженец Вятской губернии, из простой крестьянской семьи, он добился высот международной известности благодаря природному таланту и работоспособности. Его научный дебют состоялся в 1874 году, когда в трех номерах сборника «Природа» была опубликова на большая теоретическая работа «Антропоморфные обезьяны и низшие человеческие расы». В ней, основываясь на обширном археологическом и антропологическом материале, он доказывал, что представители, так называемых, «низших» рас в своем строении и психической организации имеют больше сходных черт с обезьянами, чем представители «высших» рас. Д. Н. Анучин выдвинул предположение, что легенды многих народов земли, выводящих свои родословные от различных животных, являются не вымыслом, а имеют под собой реальную почву-факт древнейшего скотоложеского соития представителей этих племен с животными. В этой связи молодой ученый писал: «...можно сказать, что мысль о возможности близкого родства или взаимного перехода между человеком и обезьянами пользуется довольно значительным распространением как среди полудиких народов, так и среди культурных, с тою лишь разницей, что в последнем случае такое обезьянье происхождение приписывается обыкновенно или более грубым племенам, или же отдельным фамилиям». Данная антропологическая трактовка этнографических преданий быстро нашла своих последователей из академической среды не только в России, но и за ее пределами. В 1876 году Д. Н. Анучин публикует сразу несколько фундаментальных работ: «Этнографические очерки Балканского полуострова», «Этнографические очерки Сибири. Русско-сибирская народность», «Как люди себя украшают и уродуют». К этому же раннему периоду его творчества принадлежат исследования о так называемых «дивьих людях», предвосхищающие современные изыскания о снежном человеке.
Молодая русская антропология была на подъеме, что вызвало желание крупного российского фабриканта и владельца железных дорог К. Ф. фон Мекка пожертвовать 25000 рублей на учреждение первой в России кафедры антропологии. 8 октября 1876 года Министерство народного просвещения разрешило учредить такую кафедру при физико-математическом факультете Московского Университета. Впоследствие она длительное время содержалась на проценты от капитала мецената фон Мекка. В 1878 году Императорское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии полу чило приглашение принять участие в антропологической секции Парижской всемирной выставки. Вскоре А. П. Богданов объявил, что русская антропологическая коллекция полностью соответствует требованиям, предъявляемым дирекцией выставки. В Париже Д. Н. Анучин подал заявку председателю антропологического отдела выставки академику Арману де Катрфажу (1810_1892) о необходимости выделения России для демонстрации ее коллекции отдельного павильона площадью не менее, чем в 280 квадратных метров, что вызвало сенсацию во всем научном мире. Ни одна другая делегация не имела подобных запросов. Несмотря на это, А. де Катрфаж заверил Д. Н. Анучина, что экспозиции России будет предоставлено на выставке столько места, сколько пожелают ее представители, причем даже в ущерб другим странам.
Русская антропологическая секция, представленная на Парижской всемирной выставке в 1878 году, состояла из следующих разделов, предусмотренных программой: общая антропология и краниология (бюсты, маски, портреты племен, образцы волос, скелеты, черепа, слепки мозгов); доисторическая археология (модели доисторических монументов, жилищ, могил, каменные, костяные и бронзовые орудия); этнография Европы (этнографические карты, статуэтки, фотографии и рисунки расовых типов населения в национальных костюмах, бытовые сцены); медицинская география (расовые и этнические вариации болезней, миграция эпидемий); преподавание антропологии (приборы для расовых измерений, наглядные пособия, план организации антропологических музеев, лабораторий, курсов, программы и научные сочинения по всем разднлам антропологии, включая расовую проблему).
Огромным успехом на выставке пользовалась экспозиция из бюстов, манекенов и масок всех расовых типов народов, населяющих Российскую Империю. Ничего подобного по широте охвата и достоверности не было представлено ни одной другой страной. Глава французской антропологической школы профессор Поль Брока (1824-1880) официально заявил, что «русский и французский методы расовых измерений вполне удобосравниваемы и могут взаимно дополнять друг друга». Французское правительство присудило Д. Н. Анучину почетный знак Академии наук и степень оficer d Academie.
Во время проведения выставки в Париже состоялся Антропологический конгресс, который проходил в залах дворца Трокадеро. А. П. Богданов был избран вице-президентом конгресса, а Д. Н. Анучин вошел в состав совета. Результат, полученный от участия представителей молодой русской антропологической школы на выставке и конгрессе, превзошел все ожидания. Д. Н. Анучин сразу же по окончании конгресса был приглашен на юг Франции для участия в раскопках курганов, гротов и дольменов, а следующий Антропологический конгресс 1879 г. было решено провести в Москве.
В 1880 г. Дмитрий Николаевич Анучин защитил докторскую диссертацию на тему «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам». В 1885 г. в МГУ он начал читать курс лекций по антропогеографии, исследуя «распределение человеческих рас по земному шару», а в 1889г. основал журнал «Этнографическое обозрение» с целью, как он сам указывал, «сведения воедино разбросанных сведений о различных инородцах и частях русского населения». В 1898 г. под редакцией Дмитрия Николаевича вышло в свет руководство по доисторической археологии профессора чешского университета в Праге Любора Нидерле «Человечество в доисторические времена». В предисловии Д. Н. Анучин подчеркнул, что «все более становится очевидной культурная связь Запада с Востоком и многообразное влияние последнего на рост и развитие культурных элементов Западной Европы». В 1899 г. он прочел доклад под названием «Африканский элемент в природе Пушкина», а в 1900 принял деятельное участие в создании «Русского антропологического журнала», который сыграл важную роль в становлении науки о расах не только в России, но и во всем мире.
Будучи по природе своей страстным пропагандистом и неустанным организатором науки, в 1902 г. Д. Н. Анучин выступил на VIII съезде Общества русских врачей с докладом «О задачах и методах антропологии». Уже на склоне лет, в 1922 г., он опубликовал большую работу по эволюционной теории «О происхождении человека».
Научное наследие Дмитрия Николаевича Анучина огромно, он внес заметный вклад в развитие не только антропологии, но и географии, климатологии, ботаники, зоологии. Его творческий путь широко отражен в ряде посвященных ему монографий. Нас же, в контексте становления самобытной русской расовой теории, больше всего будет интересовать его докторская диссертация «О некоторых аномалиях человеческого черепа и преимущественно об их распространении по расам» (М., 1880).
Эта работа по праву до сих пор считается шедевром краниологии - науки, изучающей расовые различия в строении черепа людей.
…И. А. Сикорский использовал объяснение принципа наследственной передачи психических признаков при написании целой галереи биографий великих деятелей отечественной культуры. Очень характерна в этом отношении работа «Антропологическая и психологическая генеалогия Пушкина» (Киев, 1912). По-своему уникально его исследование «Экспертиза по делу об убийстве Андрюши Ющинского» (С.-Петербург, 1913). Дело в том, что Иван Алексеевич был приглашен в качестве главного судебно-медицинского эксперта на расследование знаменитого дела Бейлиса, где в аргументированной форме доказал, что налицо имел место быть факт ритуального убийства, совершенного на религиозной почве. Перу И. А. Сикорского принадлежит также множество других работ, не утерявших до сих пор своей актуальности, среди них особенно следует выделить исследования по защите психического здоровья русского народа, борьбе с алкоголизмом и табакокурением, а также о детском воспитании.
Вклад И. А. Сикорского в историю науки огромен. Мало того, вся картина русской научной жизни рубежа 19 и 20 веков без него была бы не полной. Поколения красных профессоров усиленно изображали нам ту эпоху как некое бесформенное декадентское скопище стихийных революционеров и бесхребетных романтиков. Настало время развенчать фальсификацию русской истории и восстановить в правах плеяду талантливых русских ученых, сочетавших в своих деяниях ясность ума, широту кругозора и чистоту расовой интуиции.
Крупным и закономерным следствием успешного развития русской расовой теории стал учрежденный в 1900 году усилиями А. А. Ивановского и Д. Н. Анучина «Русский антропологический журнал». Мы не будем здесь пересказывать смысл всех интереснейших статей, выделим лишь несколько самых показательных, чтобы лишний раз подчеркнуть принципиальность позиции русских антропологов той эпохи в расовом вопросе.
В первом же номере журнала было опубликовано фундаментальное исследование В. В. Воробьева «Великорусы (Очерк физического типа)». В данной работе приведен всесторонний анализ расовых признаков государствообразующего этноса. В России, равно как и за рубежом, именно в это время был достигнут значительный прогресс в создании различного рода расовых классификаций с далеко идущими выводами социокультурного характера. Так, в частности, в статье «Зубы в антропологическом отношении» (Русский антропологический журнал, № 2, 1903) Г. И. Вильга писал: «Одним из органов человеческого тела, занимающим видное место в образовании типа, являются зубы, которые представляют в своем строении значительные, не только расовые, но и индивидуальные колебания». Обобщая богатейшую историческую литературу, автор статьи начинает анализ с подразделения рас по критерию расположения верхних и нижних резцов на ортогнатные и прогнатные: «Белая раса является ортогнатной, прогнатизм встречается у цветных рас: черной и желтой; в более сильной степени он выражен у бушменов. Большие зубы у цивилизованных рас постепенно уменьшаются в своем объеме, выказывая склонность к исчезновению, у рас же с низкой культурой они очень развиты. Кроме того, величина коренных зубов уменьшается спереди кзади; у низших же рас, как, например, австралийцев и новоколедонцев, и всегда у обезьян, она увеличивается; эта особенность именуется обезьяньим признаком».
И. Вильга классифицирует расы на основе так называемого зубного указателя – dental index, - который для европеоидов составляет - 41, для монголоидов - 42, для негроидов - 44, австралоидов - 46, шимпанзе - 48, гориллы - 54 и орангутанга - 55. Как мы видим, именно при анализе столь важного показателя, как величина зубного индекса, становится совершенно очевидным, что расовые различия тождественны различиям между биологическими видами, из чего можно сделать следующий вывод: не существует явной границы между человеком и животными, а между расами она есть. Автор статьи продолжает рассуждение в том же направлении, отмечая: «Резцы человека тем острее, чем ниже человеческая раса. Относительная ширина коронки больших коренных зубов у низших рас больше, нежели у высших. У цивилизованных народов зубы на правой стороне плотнее и крепче, чем на левой, вследствие того, что у них правая сторона больше участвует в акте жевания. Этой разницы у диких народов не замечается». После цитированных слов вряд ли нужно пояснять, насколько важны особенности строения зубной системы в эволюционном плане.
Еще в начале 19 века великий немецкий антрополог Иоганн Блюменбах создал расовую классификацию, основываясь на вариациях цветов кожи. Позднейшая антропология в значительной мере развила это направление, осознавая его важность. К примеру, отечественный ученый К. А. Бари посвятил работу «О цвете кожи человека» (Русский антропологический журнал, № 1, 1912) разработке проблем классификации рас. Цвет пигментации кожи человека всегда тесно сопряжен со строением волос. П. А. Минаков в статье «Волосы в антропологическом отношении» (Русский антропологический журнал, № 1, 1900) по этому поводу отмечал: «Изучение формы поперечного разреза волос заслуживает особенного внимания антропологов. Характерные для каждой расы формы поперечного разреза являются всегда преобладающими». Далее автор проанализировал расовые классификации, созданные на анализе строения волос.
Пропорции строения тела, а также особенности скелета занимают не менее важное место в расовых классификациях. К. А. Бари в работе «Вариации в скелете современного человечества и их значение для решения вопроса о происхождении и образовании рас» (Русский антропологический журнал, № 1, 1903) подчеркивал: «Надежда на то, что и на скелете туловища у некоторых рас можно будет отметить низшие признаки, оказалась вполне основательной. Так, увеличение числа ребер соответствует более ранней ступени развития, а уменьшение ребер, а также числа свободных поясничных позвонков - более позднего происхождения». Вывод автора основан на описании скелетов различных племен из числа «низших» рас, количество ребер на скелете которых доходит до 15 (!). Обнаружены были также различия в количестве позвонков, в форме и строении ключиц, лопаток, заметные отклонения в кривизне берцовых костей, а также констатировано увеличение числа резцов на челюсти у некоторых диких племен. «Расовые отличия плеча были известны уже давно. Стоит напомнить хотя бы различное положение головки плеча, которая у австралийцев и негритянских рас обращена больше назад, чем у европейцев. У европейцев ось плеча образует с осью локтевого сочленения открытый наружу острый угол. Велики также различия и в пропорциях между верхними и нижними конечностями; в строении кисти и предплечья. Сюда относится преобладание длины нижней конечности над верхней у европейских рас. С этой точки зрения значительная длина рук у австралийцев, веддов и негритянских рас может быть рассматриваема, как первичная стадия развития. У европейцев эту первичную стадию напоминают только новорожденные», - резюмирует свои соображения К. А. Бари.
Поистине уникально еще одно расово-диагностическое наблюдение сугубо бытового свойства. К. А. Бари указывает: «Относительно нижних конечностей нужно отметить, что еще до сих пор у низших рас можно видеть признаки, указывающие на некоторую слабость этих конечностей, так как необходимая для вертикального положения тела крепость приобреталась только постепенно; и до сих пор в низших расах распространена наклонность к сидению на корточках».
Мораль, как уже отмечалось выше, находится в тесной связи с эволюцией, поэтому мы настоятельно рекомендуем всем любителям жарких споров перед началом диспута выяснять положение собеседника на эволюционной лестнице при помощи расово-физиологического тестирования. Если же он испытывает удовольствие от сидения на корточках, то лучше приберегите свои аргументы для прямоходящих. Из передач теленовостей легко можно убедиться, что многие племена Африки, Азии и Кавказа испытывают нескрываемое удовольствие от этой позы, что и должно предопределить наше к ним отношение. Данный признак, помимо расово-этнической диагностики, выполняет еще и функцию маркера криминально-дегенеративных элементов общества, т. к. сидение на корточках - весьма излюбленное времяпрепровождение заключенных в тюрьмах. Мало того, замечено, что негритянские женщины, как и многие породы животных, рожают в этой позе. Таким образом, становится очевидным, что мораль имеет эволюционное происхождение и закреплена биологически.
Примечательная работа А. П. Богданова «Физиологические наблюдения» (М., 1865) содержит выводы именно подобного характера: «Некоторые позы, очень тягостные для нас, естественны для некоторых других народов. Таково сидение на корточках, при котором носок, сильно вытянутый, упирается в землю, а ягодицы лежат на пятке. Существуют народы, у которых это положение заменяет наше сидение. Мы обращаем внимание путешественников также на способ диких племен лазить по деревьям. По-видимому, достоверно то, что у народов более или менее диких и ходящих голыми ногами, в особенности же у лазающих часто по деревьям и скалам, большой палец ноги приобретает замечательную подвижность; он может не только сгибаться и разгибаться, но также направляться внутрь и быть приведенным действием мускулов в направление, параллельное оси ноги. Такая подвижность большого пальца привела к предположению, что у некоторых рас, подобно тому как это замечается у обезьян, тип ноги приближается к типу руки».
И. А. Сикорский в поддержку этого тезиса также указывал: «Не только в строении организма, но и в привычках некоторых низших рас еще продолжают сказываться черты незаконченной или не вполне созревшей привычки к вертикальному положению тела, что выражается в склонности сидеть на корточках - склонности, от которой европейская раса уже вполне освободилась. Сама поза, какую при этом принимают, показывает, что низшими расами еще не вполне усвоено то постоянно бодрое напряжение мышц всего тела и позвоночника, какое свойственно белым. Как на антитезис этому факту можно указать на привычку русских молиться не иначе, как в стоячем положении, - что в особенности поражает наблюдателя на востоке, где молитва совершается на корточках или лежа».
А. П. Богданов также призывал внимательнее присматриваться к походке разных народов, чтобы тем вернее составить себе представление о них, ибо по его мнению, «походка столь же изменчива, как и физиономия». Очень много значит способ, которым народы плавают, а также всякого рода экстремальные позы, которые люди принимают при употреблении пищи, занятиях любовью и отправлении естественных потребностей. Для внимательного наблюдателя-аналитика здесь заключена бесценная информация о зоологической предыстории и эволюционной ценности той или иной расы и обо всех тайных, тщательно скрываемых ею изъянах.
В тесной связи с соматическими проявлениями находятся физиология и запахи. А. П. Богданов подчеркивал: «Некоторые народы издают из себя особенный запах, так например, известно, что собаки, употребляемые для охоты за бежавшими невольниками, легко отличают след негра от следа индейца. Каждая известная раса издает свой специальный запах». Весьма важны также указания русского ученого и на последствия расового смешения и метисации: «Народонаселение, состоящее из метисов, представляет большую пропорцию идиотов, сумасшедших, слепорожденных, заик и проч., сравнительно с тем числом таких же случаев, какое замечается в той или иной местности у двух первоначальных рас. Так, в Никарагуа и Перу замбосы (метисы негров и индейцев), хотя и представляют класс сравнительно малочисленный, но тем не менее из них составляется четыре пятых населения тюрем».
Различия в физиологическом и антропологическом строении у представителей различных рас имеют, кроме того, огромное прикладное значение, именно поэтому П. А. Минаков в работе «Значение антропологии в медицине» (Русский антропологический журнал, № 1, 1902) писал: «Расовые и племенные особенности, передающиеся из поколения в поколение, служат очень часто причиной болезни при содействии таких внешних факторов, которые у субъектов иной организации не вызывают обыкновенно никаких патологических процессов. Медицина должна разработать анатомию, физиологию и патологию рас и указать, какие анатомические и физиологические особенности свойственны чистым и смешанным расам и какие типы в смешанных расах наичаще подвержены или, наоборот, иммунны к тем или иным болезням».
Данного рода высказывания вновь и вновь убеждают нас в том, что развитие русской расовой теории носило осознанный, системный характер, т. к. управление огромной разноплеменной Империей требовало применения антропологических знаний на практике. К числу работ, отвечающих данному принципу, можно отнести и фундаментальную монографию русского ученого В. В. Воробьева «Наружное ухо человека» (М., 1901), в которой он дал подробную классификацию человеческих рас по такому весьма наглядному признаку. Мало того, в строении человеческого уха были выявлены и описаны негативные признаки, указывающие на дегенерацию, криминальную предрасположенность и психические отклонения.
Это обилие фактической информации, накопленной за десятилетия лабораторных и экспедиционных исследований, не могло не оформиться в стройное эволюционное учение, в рамках которого все расы и этнические группы человечества были систематизированы согласно их культурно-биологической ценности. Высшие и низшие типы людей были распределены по ступеням эволюции в соответствии с их морфологическим и психологическим строением, поведением и культурными достижениями.
Автором этой революционной концепции, во многом опередившей свое время, является еще один незаслуженно забытый русский гений Владимир Александрович Мошков. Будучи генералом артиллерии царской армии в Великом Княжестве Польском, свои служебные обязанности он умудрился сочетать с профессиональным изучением этнологии, антропологии и психологии. В основе его теории лежало логическое умозаключение, что «человечество - вид гибридный». Различное количество атавистических признаков, доставшихся человеку в наследство от его животных предков, неравномерно распределено между расами и народами, что, в свою очередь, может свидетельствовать о том, что они произошли от различных исходных, так называемых, предковых форм, а также имели различные темпы эволюции. Данная информация о различиях происхождения больших групп человечества заключена в их мифологии. Наследственные различия сказываются на особенностях культурной и экономической жизни рас и народов, характеризуя их эволюционную ценность. В. А. Мошков не скрывал, что в основе его теории лежала идея Д. Н. Анучина о том, что расовая и этническое разделение человеческого рода есть следствие биологического смешения двух ветвей эволюции: непосредственно человеческой и животной, представленной существами более низкого уровня развития. Именно эта животная примесь в человеке и дает себя знать в тяжелых психологических конфликтах между цивилизациями, находящимися на разных ступенях эволюции. В основе войн лежит биологическая несовместимость носителей разных цивилизаций.
 Название
главного труда В. А. Мошкова «Новая теория происхождения человека и его
вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии,
этнографии, истории и статистики» (Варшава, 1907) говорит само за себя. В этом
сочинении автор систематизировал картину эволюционного происхождения различных
ветвей человеческого рода, многократно подтвердив шокирующие даже посвященного
читателя выводы данными других дисциплин. Ничего подобного в мировой истории
естествознания до сих пор не было. О том, что предковые переходные формы от
недочеловека к человеку не исчезли в процессе эволюции и свободно скрещиваются с
современным человеком сегодня упоминают средства массовой информации. Гибриды
снежного человека обнаружены в разных частях земли, что соответствует данным
палеоантропологии и молекулярной биологии и подтверждает гипотезу В. А. Мошкова.
Еще в 70-е годы XX века советский исследователь Б. Ф. Поршнев создал свою
концепцию гибридного происхождения человечества, и эта теория находит все больше
последователей. Но справедливости ради, необходимо отметить, что действительным
автором идеи был все же В. А. Мошков, тем более, что его доказательная база была
намного основательнее, не говоря уже о большей идеологической раскрепощенности
дореволюционного автора. При всем нашем уважении к Б. Ф. Поршневу следует особо
подчеркнуть, что советский ученый говорил о биологической гибридности всего рода
людского, в то время как В. А. Мошков задолго до него максимально
систематизировал картину, обосновав фактами гибридизации биологическую
неравноценность как целых рас, так и отдельных народов. Причем в строгом
соответствии с уже оформившимися к тому времени постулатами расовой теории В. А.
Мошков увязал морфологические различия в строении рас с особенностями их
психической организации и культурной деятельности. Таким образом, он выявил
концентрацию той или иной степени «животности» у современных народов. Эту
недочеловеческую атавистическую фазу развития В. А. Мошков обнаружил как в
духовной жизни разных народов, так и в специфике их социальных, политических,
экономических институтов. В народных танцах, символике, сказках он подметил факт
существования той или иной формы предка современного человека. Его работа - это
образец баланса формы и содержания, а все, даже самые поразительные, выводы
основаны на данных авторитетнейших первоисточников.
Название
главного труда В. А. Мошкова «Новая теория происхождения человека и его
вырождения, составленная по данным зоологии, геологии, археологии, антропологии,
этнографии, истории и статистики» (Варшава, 1907) говорит само за себя. В этом
сочинении автор систематизировал картину эволюционного происхождения различных
ветвей человеческого рода, многократно подтвердив шокирующие даже посвященного
читателя выводы данными других дисциплин. Ничего подобного в мировой истории
естествознания до сих пор не было. О том, что предковые переходные формы от
недочеловека к человеку не исчезли в процессе эволюции и свободно скрещиваются с
современным человеком сегодня упоминают средства массовой информации. Гибриды
снежного человека обнаружены в разных частях земли, что соответствует данным
палеоантропологии и молекулярной биологии и подтверждает гипотезу В. А. Мошкова.
Еще в 70-е годы XX века советский исследователь Б. Ф. Поршнев создал свою
концепцию гибридного происхождения человечества, и эта теория находит все больше
последователей. Но справедливости ради, необходимо отметить, что действительным
автором идеи был все же В. А. Мошков, тем более, что его доказательная база была
намного основательнее, не говоря уже о большей идеологической раскрепощенности
дореволюционного автора. При всем нашем уважении к Б. Ф. Поршневу следует особо
подчеркнуть, что советский ученый говорил о биологической гибридности всего рода
людского, в то время как В. А. Мошков задолго до него максимально
систематизировал картину, обосновав фактами гибридизации биологическую
неравноценность как целых рас, так и отдельных народов. Причем в строгом
соответствии с уже оформившимися к тому времени постулатами расовой теории В. А.
Мошков увязал морфологические различия в строении рас с особенностями их
психической организации и культурной деятельности. Таким образом, он выявил
концентрацию той или иной степени «животности» у современных народов. Эту
недочеловеческую атавистическую фазу развития В. А. Мошков обнаружил как в
духовной жизни разных народов, так и в специфике их социальных, политических,
экономических институтов. В народных танцах, символике, сказках он подметил факт
существования той или иной формы предка современного человека. Его работа - это
образец баланса формы и содержания, а все, даже самые поразительные, выводы
основаны на данных авторитетнейших первоисточников.
В другом своем сочинении «Механика вырождения» (Варшава, 1910) В. А. Мошков опередил известного немецкого философа Освальда Шпенглера, создав картину мировой истории, базирующуюся на культурно-биологических циклах, причем не ограничился констатацией смены великих цивилизаций, а развил свои взгляды, предсказав историю России до 2062 года. Его предсказания до сегодняшнего момента сбылись, в то время как концепция Шпенглера развалилась, ибо многие цивилизации, например, Индия, Китай, арабский мир, сегодня начали второй цикл развития, что невозможно согласно логике немецкого философа.
Имя Владимира Александровича Мошкова сегодня несправедливо предано забвению, как и имена многих других русских ученых, создавших монументальное строение русской расовой теории. Многие некогда запретные темы ныне становятся доступными для обсуждения, забытые страницы русской истории находят своих скрупулезных толкователей и популяризаторов. Но картина будет заведомо неполной, если мы, согласно установившейся традиции, станем умильно воспевать лишь поэтов, писателей и художников, обходя молчанием сам факт существования целой плеяды ученых-естествоиспытателей и натурфилософов, создавших оригинальные политические и философские концепции, ценность которых мы лишь начинаем постигать. Именно творцы русской расовой теории создали целостную картину мировидения на основе законов природы. В свое время их многотрудная кропотливая работа была по достоинству оценена как светской, так и духовной властью, будучи востребованной в деле построения и укрепления Российской Империи. Поэтому сегодня никакая реставрация Русской государственности не может обойтись без данного научного опыта.
Следовательно и все рассуждения о Русском духе должны иметь под собой фундамент расовой биологии. Деяния отцов русской расовой теории должны стать достоянием самых широких слоев общественности и занять подобающие им места вечных ориентиров на пути великого движения белой расы и Русского народа, в частности.
Данная работа никак не претендует на полное освещение заявленной темы, являясь первым опытом возрождения русской расовой теории. Будем надеяться, что официальные историки, философы, социологи, культурологи найдут время и возможность, чтобы глубже разработать этот воистину золотоносный пласт русской науки.
Владимир АВДЕЕВ
(Публикуется в сокращении)
Источник: Русский международный журнал "АТЕНЕЙ", № 3-4
Владимир АВДЕЕВ
КОМПАРАТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ В ТРЕТЬЕМ РЕЙХЕ
''Война - укрепляющее лечение человечества,
лечение железом''.
Жан Поль
 История
военного искусства на всех континентах насчитывает многие тысячелетия, так же
как использование психологических методов борьбы было известно еще до появления
регулярных армий, в современном смысле этого слова. Строго говоря, психология
противоборства существует столько, сколько существует сам поединок, то есть
равно столько же, сколько существует борьба за жизнь. Но только в ХХ веке, в
условиях тотального противостояния народов в мировых конфликтах большой степени
интенсивности, представления о ведении войны начали кардинально меняться. Грань
между военными контингентами и мирным населением стала стремительно стираться, и
впервые на арену открытого противоборства выступили не армии отдельно взятых
государств, но именно целые нации и расы во всем сложнейшем комплексе
психических, этнических и религиозных характеристик. Впервые в истории
оказалось, что учитывать и, соответственно, влиять на боевой дух войск уже не
достаточно, ибо нужно иметь представление о психическом состоянии всего воюющего
народа, причем как в условиях затяжной войны с ее лишениями и неопределенностью,
так и в краткие мгновения триумфов и поражений, когда пик нервного напряжения
миллионов людей достигает своего апогея, а экзальтация или паника могут повлиять
на весь ход борьбы самым непредсказуемым образом.
История
военного искусства на всех континентах насчитывает многие тысячелетия, так же
как использование психологических методов борьбы было известно еще до появления
регулярных армий, в современном смысле этого слова. Строго говоря, психология
противоборства существует столько, сколько существует сам поединок, то есть
равно столько же, сколько существует борьба за жизнь. Но только в ХХ веке, в
условиях тотального противостояния народов в мировых конфликтах большой степени
интенсивности, представления о ведении войны начали кардинально меняться. Грань
между военными контингентами и мирным населением стала стремительно стираться, и
впервые на арену открытого противоборства выступили не армии отдельно взятых
государств, но именно целые нации и расы во всем сложнейшем комплексе
психических, этнических и религиозных характеристик. Впервые в истории
оказалось, что учитывать и, соответственно, влиять на боевой дух войск уже не
достаточно, ибо нужно иметь представление о психическом состоянии всего воюющего
народа, причем как в условиях затяжной войны с ее лишениями и неопределенностью,
так и в краткие мгновения триумфов и поражений, когда пик нервного напряжения
миллионов людей достигает своего апогея, а экзальтация или паника могут повлиять
на весь ход борьбы самым непредсказуемым образом.
Грандиозные социально-экономические изменения в структуре обществ, образование наций и, как следствие, изменение специфики этнического самосознания, возникновение теории и практики политической борьбы, а также грандиозный скачок в развитии психологии, антропологии, биологии, генетики создали все предпосылки для возникновения в ХХ веке целого блока военных наук на естественнонаучной основе. Наконец, развитие грамотности среди самых широких слоев населения, секуляризация многих аспектов жизни, до того находившихся в идеологическом ведении церкви, и доступность информации - все это в совокупности не могло не повлечь за собой создание принципиально новой идеологии ведения психологической войны. Идеологии, созданной уже не на уровне первобытной боевой магии, но на основе интеллектуальных методов и системного анализа.
Сам термин ''компаративная психология'' был впервые использован в 30-х годах немецким военным психологом, полковником вермахта Альбрехтом Блау и обоснован в качестве названия новой военной дисциплины в его книгах ''Пропаганда как оружие'' (1935) и ''Духовное руководство войной'' (1937).
В немецких военных справочниках тех лет под компаративной психологией понималась ''совокупность знаний о стране, против которой направлены военные действия, а также анализ основ национального характера и темперамента ее обитателей''. Эта дисциплина относилась к категории военного и политического интеллектуального обеспечения. В ее задачи входило исследование и оценка психологических и социальных факторов и феноменов зарубежных наций, с которыми сопряжены военные и политические планы.
Само слово ''компаративный'' происходит от латинского ''цомпаратижус'', то есть сравнительный или разделяющий. Таким образом, термин в буквальном смысле звучит как ''сравнительная психология национальностей'' или ''дифференциальная психология национальностей''. Однако еще в 1863 году известный немецкий психолог Карл Густав Карус издал книгу под названием ''Сравнительная психология'', в которой исследовалась взаимосвязь психологии человека с представителями животного царства. Поэтому расчет А. Блау был прост: не снижая академизма постановки проблемы, самим названием подчеркнуть предельную политизированность новой дисциплины, обозначив разделительный дифференцирующий характер этого термина. Что и было сделано.
В традиционном плане все было решено безупречно, ибо новая наука строилась на основе обобщений Гегеля, Гердера, Канта, Лацаруса, Вундта, Лебона. С методологической точки зрения компаративная психология формировалась на пересечении физиологической психологии, психоанализа, экспериментальной психологии, социальной психологии, генетической психологии и культурной антропологии. Философская же база новой дисциплины, как и следовало ожидать, была основана на немецкой философии, ибо решение практических задач планировалось с помощью классических идей, кристаллизованных в учении о ''народном духе'' Гегеля, ''прагматической антропологии'' Канта и ''народной психологии'' Вундта.
Книга ''Духовное руководство войной'' А. Блау является основополагающей по теории психологической войны, ибо ценна обстоятельной проработкой вопроса.
Сын берлинского коммерсанта Альбрехт Блау родился 6 ноября 1885 года и, будучи по природе сугубо штатским человеком, свою первую военную медицинскую комиссию прошел только в 1907 году, а в 1910 перевелся в Военно-техническую академию, чтобы слушать лекции профессора Шмоллера, посвященные истории социальных классов. Он принимал участие в Первой мировой войне и в 1921 году демобилизовался из армии в чине капитана, затем посвятив себя издательскому бизнесу. Однако, как оказалось в действительности, Блау не порвал связи с Рейхсвером, оставаясь сверхштатным офицером и занимаясь разработкой психологического обеспечения вооруженных сил. В Берлинском технологическом институте Блау изучал экономические науки. В 1929 году он вновь был призван на действительную службу в армию в чине майора и направлен на станцию психологического тестирования в 3-ий армейский корпус, а в 1932 году защитил докторскую диссертацию. Тема звучала так, ''Рекламный маркетинг в немецких газетах''. С 1934 года все свои силы и время он посвящает разработке принципов и задач компаративной психологии - немецкой версии психологического обеспечения войны и пропаганды. В 1938 году Блау получил звание полковника, а впоследствии - генерал-майора, и считался в Германии одним из ведущих специалистов в области интеллектуального обеспечения психологической войны.
Помимо него, корифеями в области компаративной психологии считались следующие ученые. Военный психолог Мартин Фридрих Блок, занимался национально-психологической структурой стран юго-восточной Европы, а также создавал логические модели психологического шпионажа. Макс Гольденберг был разработчиком концепции ''образа врага'', а также военным психологом в части разработки методов психологического шпионажа, конкретно - в процессе ведения боевых действий. Вилли Гуго Гельпах считался одним из ведущих специалистов в области национальной характерологии. Национальный характер он объяснял на основе методик психологии, социологии и культурной истории. Геопсихолог Мартин Кейлхакер занимался изучением английского национального характера, а также вопросами морального облика обитателей ''туманного Альбиона''. Эвальд Банзе и Отто Бессенродт, выступая в общем русле доктрины и разделяя суждения своих коллег, считали, тем не менее, весьма важным подчеркнуть, что ''характерологию зарубежных наций нужно стремиться понимать как комплиментарное оружие в борьбе''. То есть, при правильной системе мер как недостатки, так и достоинства конкретного зарубежного народа могут быть обращены ему же во вред. Все зависит лишь от технологии и векторов приложения соответствующих сил. Кроме того, Бессенродт был крупным этнопсихологом, а Банзе написал множество книг по военной эстетике, антропогеографии, психогеографии и этнологии.
Задачей компаративной психологии является изучение интеллектуальных и духовных характеристик зарубежных наций, с которыми приходится вступать как в мирные отношения, так и в открытое военное противостояние. Необходимо оценить и понять эти нации, а также вскрыть все динамические силы, влияющие на перемены в их характере, для того, чтобы наперед просчитать противодействие, которое они могут оказать, отвечая на действия противника. Опять же, вне зависимости от того, находятся ли наши страны в состоянии войны или мира. Зарубежные нации должны быть поняты вначале сами по себе, а затем применительно к действиям со стороны.
Сложность поставленной задачи состоит в том, что учету и кодификации должны быть подвергнуты не только внешние социальные и экономические факторы нации, но и тонкие черты ее душевного склада, такие как мнительность, романтичность, суеверие, специфика религиозных переживаний и еще множество других. И все эти составляющие доминирующего национального характера должны быть учтены в общем балансе сил, так же как и специфические признаки социальных, этнических и религиозных групп этой нации, с целью составления ее максимально достоверного характерологического портрета. Причем как в статике, так и в динамике.
Наконец, в компетенцию компаративной национальной психологии входит еще и такой весьма важный аспект, как выяснение отношений между народом интересующей нас страны и его духовным или политическим лидером. Необходимо предвидеть и просчитывать, какие шаги с учетом коллективного национального характера может себе позволить лидер данной державы, а какие - заведомо нет, обрисовывая таким образом вероятную зону принятия политических решений всего государства в целом. Кроме того, в процессе анализа можно выяснить, какого типа вообще возможен лидер для этой нации.
Важно уяснить, по какому принципу, с учетом каких предпочтений и стереотипов строит данная нация свои отношения как с противниками, так и с партнерами. Альбрехт Блау в этой связи, кристаллизуя практическую цель метода, писал: ''Государственный муж, также как и солдат, должны знать народы зарубежных стран, их желания и цели, причуды их веры и национальной гордости, черты характера, импульсы в поведении, восприимчивость, все их внутренние трудности и противоречия''.
Как видим, древнеримский принцип ''разделяй и властвуй'' в этой формулировке доведен до высшего интеллектуального смысла, со всей рациональностью военной науки.
Сталкиваясь с конкретным предметом исследования, компаративная психология старается первоочередно ответить на вопрос: ''Какой тип нации мы имеем перед собой при рассмотрении?''. Сложный по композиции ответ повлечет за собой следующий вопрос: ''Какие политические акты и культурные достижения мы вправе ожидать от нации подобной характерологической конституции?''.
Разбирая характер и темперамент зарубежных наций, данная военная наука стремится получить ответ уже на более конкретные вопросы:
Каковы ментальные характеристики представителей этой нации?
Какова мотивация их воли к войне и миру?
Какие духовные, культурные или религиозные причины лежат в основе этой мотивации?
Каков моральный дух в воинских контингентах армии этой нации, а также у ее гражданского населения?
Каков вероятный диапазон методов ведения войны со стороны армии данной нации?
Какие ожидаемые и неординарные акции могут быть предприняты с ее стороны, а также каково отношение мирного населения данного государства к применению традиционного и нетрадиционного методов ведения войны?
И наконец, каково отношение армии противника и мирного населения к проведению психологических спецмероприятий?
Таким образом, как видим, вся сложнейшая структура военно-политических, социальных и культурных мероприятий государства, отнимающая у него гигантские материально-технические, экономические, людские и иные ресурсы, целиком и полностью зависит от степени учета характерологического портрета зарубежных наций. Поэтому внешнеполитическая проблема государства превращается в сложнейшую математическую задачу со множеством неизвестных, а естественно-научные дисциплины и сухие цифры статистики самым непосредственным образом отражены в психологии народа, его привычках, характере, а шире - в том, что замечательный немецкий социолог Эмиль Дюркгейм удачно назвал ''психическим богатством нации''. Лацарус, в свою очередь, подчеркивая сложность постановки проблемы, а также необходимость абстрактного мышления при ее решении, остроумно заметил в этой связи, что ''народы - это бесплотные принципы''.
Характер народа - это матрица со множеством входящих и выходящих параметров, каждый из которых должен быть учтен для успеха как мирных взаимоотношений с ним, так и для результативности ведения против него боевых действий. В целом характер нации зависит от путей развития ее национальной культуры, институтов власти, политических действий на протяжении всей истории.
Специфика же национального характера отчетливее всего видна, когда нация переживает критические этапы своего развития, в результате чего анализируется национальная реакция на некие культурные феномены, природные катастрофы, экономические и политические кризисы, а также множество частных внутренних проявлений, вплоть до поведения женщины в семье. Поэтому, пользуясь языком математики, можно сказать, что характер нации являет собой функцию нескольких переменных во времени, в свою очередь, специфика характера нации представляет собой производную этой функции по одной из переменных.
В связи с качественной постановкой комплексной задачи психологического обеспечения войны немецкие военные психологи первой половины ХХ века предлагали использовать различные частные методы изучения характеров зарубежных наций.
Мартин Фридрих Блок анализировал характер народов юго-восточной Европы, используя ''прямой эмпирический подход'', он изучал и оценивал индивидуальность наций как непосредственный очевидец. Мартин Кейлхакер применял ''косвенный дедуктивный метод'', поэтому анализ национального характера британцев он проводил через анализ персон великих людей, таких, как, например, лорд Гладстон, которого считал ''типичным англичанином''. Кейлхакер в процессе работы сделал множество интересных обобщений: ''Каждый, кто хотя бы раз был другом или недоброжелателем Англии, вступая с ней в непосредственный контакт, должен отчетливо понимать, что он имеет дело с политически-талантливой и опытной нацией. Англия рассудительно и основательно изучает политику и политиков других стран с точки зрения глобальной перспективы, тщательно прорисовывает свою будущую реакцию, подходящую для данного конкретного случая. Как и во времена Гладстона, английский народ остается глубокомысленным наблюдателем, формирующим действительность и умело упорядочивающим происходящие события. Это неоценимое качество, в свою очередь, и является источником и самой сущностью политических успехов англичан. Конечно же, Англия допускала ошибки и терпела некоторые военные и политические неудачи, но благодаря взвешенной оценке ситуации ее действующими политиками, она редко проигрывала войны в своей истории, и вообще не проигрывала их последние сто пятьдесят лет. Этот ощутимый факт способен породить в сознании каждого, кто хочет сам столкнуться с английским народом и его характером, стойкое убеждение, что он никогда не сможет быть таким же, как англичанин''.
Другие ценные и интересные обобщения в области изучения английского национального характера были сделаны такими исследователями, как Хильдегард Гейгер, Вилли Грамм, Эвальд Банзе и Райнхольд Зиберг.
Определенный анализ был проделан и в отношении оценки французского, русского и американского национального характеров со специальным учетом ''воинских качеств''. Макс Симоне детально изучал Соединенные Штаты Америки в период радикальной смены их внешней политики, в тот сложный исторический момент, когда эта страна переходила от политики изоляционизма к прямой военной интервенции, и заключил, что и Германия неизбежно столкнется с аналогичными проблемами, посему их опыт должен быть обязательно учтен самым тщательным образом. Его отчет был специально подготовлен для Немецкого общества военной политики и военных наук, но никогда не был опубликован в открытой печати.
Военный психолог Вальтер Бек, возглавивший впоследствии научно-исследовательский центр в Бреслау, перед этим специализировался на изучении воинских качеств американской армии во время стажировки в Бостонском университете. Именно на основе этих материалов, отраженных в центральном геополитическом периодическом издании ''Зеитсцхрифт фур геополитик'', были сделаны обобщающие выводы относительно американского национального характера, которые и легли в основу немецкой военной доктрины, когда в войну вступили США. Главный редактор этого журнала Карл Гаусхофер резюмировал данную информацию в виде геополитического сарказма, объявив, что ''Соединенные Штаты - это страна, а не нация''. Возможно, эта стратегическая ошибка во многом повлияла на ход Второй мировой войны. Однако он давал высокую оценку моральным качествам американского народа в целом, особенно его пуританизму, в сочетании с духом предпринимательства и неистребимой жаждой лидерства, которые, как полагал Гаусхофер, и являются основой американского национального характера, его стержнем.
Аналитические обзоры составлялись также на базе художественной литературы, газет, модных журналов, рекламы, радиопередач, кинематографа - в общем всех доступных внешних проявлений социальной жизни общества, наиболее чувствительных к изменению вкусов, пристрастий и иных подвижных свойств национального характера.
Военные психологи Третьего Рейха слыли признанными специалистами и в области составления подробных ''интеллектуальных и эмоциональных карт'' политических, экономических, а также военных лидеров зарубежных стран. Эти характерологические оценочные анкеты составлялись на основе открытых биографических данных, но с использованием секретной оперативной информации.
Гейнц Диркс отличился тем, что создал подробный портрет польского лидера маршала Йозефа Пилсудского на базе соотнесения его собственных письменных материалов, а также свидетельств о его личности посторонних наблюдателей. Эта работа представляет особый интерес, ибо в ней детально отражен немецкий принцип изучения ''теории лидерства''. В свою очередь, Фридрих Шонеман преуспел в создании великолепного мозаичного образа президента Франклина Делано Рузвельта, основываясь на том же принципе, причем с использованием опыта американской системы выборов.
Весьма показателен и другой пример. Книга сокровенных размышлений Уинстона Черчилля была опубликована одним из его секретарей, и Немецкое агентство новостей в Нью-Йорке тотчас получило заказ по телефону на подробное изложение этого сочинения для радиослушателей в Берлине, совершенно очевидно - с целью дополнения существующих материалов об английском премьер-министре. Данный случай отражает два основных качества немецкой ''охоты за умами''. Во-первых, потрясающая оперативность, а во-вторых, абсолютная гласность. Ибо немецкая пропагандистская машина считала необходимым в условиях ведения тотальной психологической войны, что в интересах всей нации: от дипломатов и военных до домашних хозяек и детей - знать нюансы психики, а также различные подробности биографии всех политических лидеров, влияющих на судьбу Германии. Запомним и это.
Персональный интерпретатор речей Гитлера Пауль Шмидт был обязан иметь тщательно разработанную анкету индивидуальных характеристик на каждого дипломата в Европе. Кроме того, наиболее лелеемым имуществом основателя военной интеллектуальной службы Вальтера Николаи была картотека, содержащая аналитические данные более чем на триста тысяч иностранцев.
На уровне подобного персонального изучения рассматривалась польза французского премьера Леона Блюма для идеологических целей Третьего Рейха, в то время, как влияние Черчилля и Идена было признано крайне опасным. Используя последние по тем временам достижения в области психоанализа, немецкие дипломаты однажды пытались удержать Блюма в офисе и препятствовали посещению его Черчиллем, стараясь этим даже в мелочах минимизировать влияние английской внешней политики. Принципы китайских придворных интриг, ставших притчей во языцех в мире дипломатии, получили новый виток при помощи интеллектуалов из спецслужб Германии. В другой раз министерство пропаганды проинструктировало прессу воздержаться от атак на французское правительство, а Гитлер лично дал распоряжение министру экономики Ялмару Шахту оплатить официальный визит Блюма как визит частного лица, чтобы в средствах массовой информации сложилось стойкое убеждение, что французский премьер является ''персона грата'' в Третьем Рейхе. Одновременно с этим министерство поддержало французских реакционеров, находившихся в оппозиции к Блюму, с тем чтобы гарантировать ему возможность пережить момент своей политической бесполезности.
Подобная тактика была в русле политики немецкой психологической школы, которую удачно сформулировал Карл Пинтчовиус в своей книге ''Сила духовного сопротивления в современной войне'' (1936): ''Должно быть признано ошибочным бороться против социалистического режима за границей, не используя марксистские вирусы, показывающие его эффективность в определенной степени''.
К. Пинтчовиус был также военным психологом с хорошей репутацией, а кроме того, экономистом и поэтом. В своих работах он указывал, что современная механизированная война приносит новые и ужасные психологические проблемы, с которыми ''поверхностная профилактика, такая, как пропаганда'' не способна справиться. Пинтчовиус подверг оригинальной критике массовое психологическое отношение к этим проблемам, требующим понимания ''рациональным интеллектом современного человека, жизнь которого в городе и технологические аспекты бытия приучают отвечать на вопросы до того, как включится его сознание''.
Генрих Биндер - бывший начальник департамента прессы при Верховном командовании еще времен Первой мировой войны - позднее также занимался изучением характерологических достижений за рубежом. Известный немецкий расовый психолог 30-х годов Людвиг Фердинанд Клаусс вместе с Карлом Питчовиусом изучали суть таких понятий как ''глоире'' (слова) и ''сурете'' (безопасность), влияющих на национальный характер французов.
''Волю к войне'' населения Англии и Франции как наиболее вероятных противников в грядущей войне они анализировали на основе следующих факторов:
1. Доля пуританизма в развитии британской имперской идеи.
2. Влияние Кромвеля на британскую военную философию.
3. Частные влияния; такие, как унитарный характер англиканской церкви, а также роль, которую играет католическая церковь и иезуиты во Франции.
4. Роль тред-юнионизма в английском и французском национальном характере.
5. И, наконец, влияние таких категорий, как ''глоире'', ''сурете'' и ''есприт де рентиер'' (дух рантье) на внешний облик французов.
При характерологическом изучении Америки Клаусс и Пинтчовиус оценивали влияние морали, интеллекта и духа экономического предпринимательства на ''волю к войне''.
Фридрих Шонеман метко подметил, что: ''Врожденный пацифизм американского народа постепенно обретает черты навязчивой мессианской идеи.(...) Война идентифицируется с милитаризмом, к которому американцы испытывают отвращение, поэтому война во имя мира, война для окончания войны допустима, но не обязательна.(...) Демократическая идеология таким образом составляет сердцевину идеологического обоснования крестового похода, возглавляемого Америкой. Интервенция при президенте Вильсоне тому наглядное подтверждение. При президенте Рузвельте эта опасность первой величины возникает снова, угрожая нашей безопасности и будущему''. Данная глубокомысленная психоаналитическая оценка американской экспансионистской политики была дана Шонеманом до начала Второй мировой войны еще в 1939 году. И мы видим, как в наши дни мессианская идея обозначила в полной мере свою агрессивность и нетерпимость под маской ''демократической идеи'', которая служит своеобразной индульгенцией за все акты насилия, совершаемые американской внешней политикой.
Прежние психологические школы обычно изучали зарубежные нации на основе справочников для путешественников. Немецкие военные интеллектуалы решительно отвергли этот источник как крайне поверхностный, несовершенный и неточный. Альбрехт Блау говорил: ''Невозможно более мириться с этой крайней несерьезностью нашего времени и отказаться от постановки задачи столь решающей важности на основании второстепенных источников и субъективных индивидуальных описаний для случайных путешественников. Наиважнейшей задачей является неотступное следование по пути сознательного планирования и организации усилий и систематизации всех оценок, которые объективируют изучение национального характера интересующей нас страны''. По тем временам это был переворот в принципах сбора и оценки информации для характерологического метода. Альбрехт Блау предлагал доверить саму постановку проблемы лишь подготовленным специалистам. Он не доверял мнению ''премудрых гуманитариев'', собирающих сказки, пословицы, фольклор и потому считающих себя знатоками какого-либо народа.
Геопсихология, антропогеография, психогеография, этнология, сравнительная расовая психология, криминалистика, психоанализ, характерология - вот подлинный фундамент для изучения населения стран как союзниц, так и соперниц. Эмоции нельзя изучать на уровне эмоций же - и это явилось ключевым правилом немецкой школы военной психологии. Жесткая взвешенная систематизация необходима даже там, где, казалось бы, душевный порыв изучаемого народа проистекает из необъяснимых глубин его архетипического сознания. Работа военного психолога, таким образом, основана не на случайном озарении, гениальной интуиции, но представляет собой каждодневную рутинную работу по учету и анализу сотен единичных фактов из жизни граждан интересующего государства. В океане информации он должен умело обнаруживать и оценивать свойственные данному народу экономические, социальные и культурные события, могущие повлечь за собой определенные политические изменения. Военный интеллектуал должен уметь использовать самые неожиданные источники информации: от массовых спортивных зрелищ до анекдотов и от публичного богослужения до демонстрации женской моды. Подобно неусыпному хищнику, он должен искать добычу для своего изощренного ума повсюду, при этом соблюдая внешнюю невозмутимость, чтобы не указать окружающим цель своих подлинных интересов. Читая между строк, прекрасно разбираясь в людях, военный психолог не имеет права быть прямолинейным чинушей, но обязан быть до некоторой степени артистической натурой. Помимо общей эрудиции и методической подготовки, должен обладать еще и природной сметливостью, ибо на фоне безобидных бытовых реалий он должен распознавать контуры грядущих событий. Абстрактное мышление вместе с гибким использованием разнообразных источников создает в сознании психолога модель, которую Альбрехт Блау назвал ''симптоматическим заменителем общей картины''.
Психологические наблюдатели (так же как и психологические шпионы), по его мнению, ''должны быть настоящими артистами, профессионально удачливыми, с огромным чувством привязанности к своему делу, полной приспособляемостью к окружающей обстановке и должны обладать фанатической волей к достижению поставленных задач''.
Другой военный психолог Герман Франке в этой связи писал, что ''...геополитики, агенты, а также нейтральные информаторы великолепно подходят для обеспечения материальной стороны этих исследований. Однако он считал необходимым подчеркнуть: ''Только неблагоразумное правительство может пренебречь использованием таких наблюдателей. Лучшие военные интеллектуальные бюро были организованы в мирное время, и их лучшие функционеры были призваны на военную службу из гражданской жизни, и наиболее ценный вклад может быть сделан ими только после окончания войны''.
Это один из главных парадоксов данной науки, но это факт, ибо мирное время для военного психолога и является временем самых напряженных боевых действий. Так как в конечном счете именно от его усилий зависит, грянет настоящая война или нет. Спровоцировать ее или же не дать ей возникнуть - вот главный результат профессиональной деятельности военного психолога высокого ранга.
Главное предназначение компаративной психологии, таким образом, состоит в обеспечении эффективного ведения психологического наступления. Альбрехт Блау подчеркивал, что поиск должен ''определить типы вооружений, их развертывание и применение для воздействия на противника с целью подавления всех его моральных сил''.
В заключении проясним позицию автора. Цель написания данной статьи виделась нами не как пропаганда наследия Третьего рейха, а исключительно как аналитический обзор мало известных у нас в стране аспектов военной науки. Это тем более актуально, что отечественная армия находится в состоянии реформирования, которое изрядно затянулось, и, на наш взгляд, дело не столько в недостатке современной техники, сколько именно в кризисе представлений об интеллектуальных и психологических составляющих противостояния на существующем этапе развития цивилизации. Приведем один характерный факт в контексте заявленной темы. В советских и позднее в российских высших военных учебных заведениях обучалось множество офицеров по специальности военный психолог, но за все это время не было издано ни одного специального учебника по военной психологии или по интеллектуальным технологиям обеспечения ведения военных действий на территории противника. Очевидный провал Афганской компании в плане учета религиозных представлений коренного населения этой страны и его мотивации ''воли к войне'' _ тому наглядное подтверждение. Череда конфликтов разной степени интенсивности на всем постсоветском пространстве, увы, продолжает констатацию удручающего положения в данной сфере. Однако есть и первые отрадные факты. В разгар ведения Второй чеченской войны подразделениям спецназа начали наконец читать лекции по психологии чеченского народа. Кроме того, появились серьезные самостоятельные работы по отечественной военной аналитике, не стесненные интернациональной догматикой советской эпохи. Таким образом, русская военная школа может вновь обрести свои выигрышные национальные признаки и приоритеты. А в силу очевидной расовой близости русских и немцев мы не видим ничего зазорного в критическом осмыслении позитивных сторон немецкой школы компаративной психологии.
Обращение Владимира Авдеева к украинцам
по случаю презентации журнала "АТЕНЕЙ" в Киеве 11 мая 2003 года.
Уважаемые соратники
и единомышленники в Украине!
Весь Белый мир, в том числе и Славянство, переживает сегодня трудные дни. В условиях глубокого демографического кризиса, сокращения жизненного пространства, утраты моральных ориентиров и отсутствия политического единства, как никогда ранее, необходима дружба русского и украинского народов. История учит, что плодами нашего противоборства и раздробленности неминуемо воспользуется третья, недружественная сторона.
70-летняя коммунистическая эпоха одинаково пагубно сказалась на жизни, как русских, так и украинцев. Поэтому, пробуждая голос крови, заглушенный пропагандой интернационализма, мы восстанавливаем сегодня нашу общую родовую первооснову.
Новое прагматическое взаимодействие между нашими народами может быть достигнут только на основе расового мышления. Ибо только осознание нашей расовой общности способно перевесить исторический груз взаимных обид и обвинений. Расология, объясняющая биологические первопричины явлений, это единственная наука, которая способна дать ответ на многие социальные и культурные вопросы.
Только дух Белого единства поможет нам и нашим потомкам выстоять в борьбе за существование.
Слава Белым народам! Да здравствует наша раса!
Владимир Авдеев.
1 мая 2003 года.
Источник: сайт русского международного журнала "Атеней": http://www.ateney.ru/